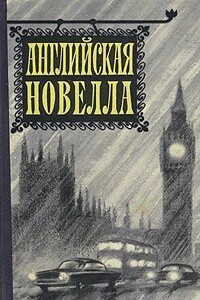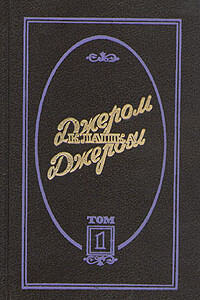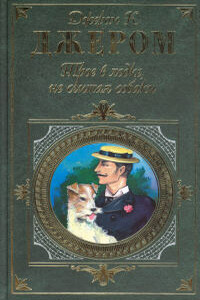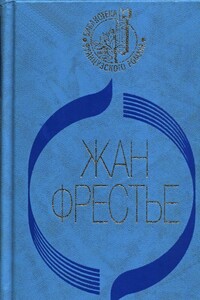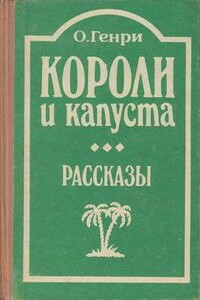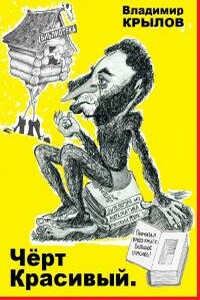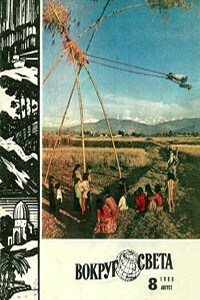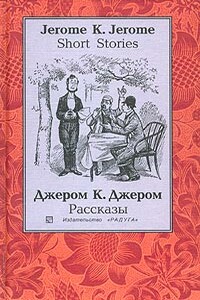У меня однажды былъ сонъ, страннѣе котораго трудно себѣ представить. Мнѣ приснилось, что я пришелъ въ театръ и что капельдинеръ отказался пропустить меня на мѣсто, если я не оставлю у него своихъ… ногъ!
Требованіе капельдинера нисколько не удивило меня (я такъ хорошо быль знакомъ съ театральными порядками, даже и наяву не удивился бы какимъ угодно чудовищнымъ комбинаціямъ этихъ порядковъ), но мнѣ было очень досадно оставлять гдѣ-нибудь на вѣшалкѣ свои ноги, это, какъ хотите, даже и во снѣ крайне непріятная вещь.
Высказавъ капельдинеру, что мнѣ не приходилось слышать о такомъ нелѣпомъ распоряженіи, какимъ является требованіе, чтобы посѣтители театровъ оставляли свои ноги на вѣшалкѣ вмѣстѣ съ верхней одеждой, я добавилъ, что сочту свой долгомъ на другой же день возбудить объ этомъ вопросъ «Таймсѣ».
Капельдинеръ отвѣтилъ, что лично онъ тутъ ни при чемъ, такъ какъ исполняетъ лишь то, что ему приказано дирекціей театра. Насколько ему извѣстно, это странное на первый взглядъ распоряженіе основано на постоянныхъ жалобахъ самихъ посѣтителей на то, что имъ въ театрѣ нельзя шагу сдѣлать безъ того, чтобы не наступить на чужія ноги, и некуда убирать свои. Первая жалоба исходила отъ вновь при прибывающихъ посѣтителей, которымъ приходится пробираться къ своимъ мѣстамъ черезъ ноги явившихся пораньше; вторая жъ жалоба вносилась именно этими раньше пришедшими, обезпокоиваемыми новыми посѣтителями. Въ виду этого дирекціи ничего больше не оставалось, какъ требовать отъ всѣхъ посѣтителей оставлять ноги на вѣшалкѣ.
Поразмысливъ, что всякіе дальнѣйшіе протесты съ моей стороны будутъ безполезны, я покорно сѣлъ и позволилъ капельдинеру снять съ меня ноги.
До тѣхъ поръ я и не зналъ, что человѣческія ноги съемныя, и всегда считалъ ихъ прикрѣпленными къ туловищу наглухо. Однако капельдинеръ съ изумительнымъ проворствомъ отвинтилъ мнѣ обѣ ноги, при чемъ былъ настолько любезенъ, что показалъ мнѣ, какъ дѣлать эту операцію самому, безъ посторонней помощи. И опять-таки я вовсе не былъ удивленъ въ томъ смыслѣ, чтобы найти это сверхъестественнымъ, а былъ только, такъ сказать, пріятно пораженъ новымъ открытіемъ.
Въ другой разъ мнѣ снилось, что меня ведутъ вѣшать. Но и въ этомъ случаѣ я не чувствовалъ удивленія; нисколько не были удивлены и всѣ окружавшіе меня родные, пріятели я просто знакомые. Всѣ они сгруппировались возлѣ меня и съ самыми веселыми лицами желали мнѣ пріятнаго пути. Казалось, предстоявшій мнѣ трагическій конецъ считался ими въ числѣ самыхъ обыденныхъ явленій въ мірѣ. А, можетъ-быть, они только притворялись такими веселыми, скрывая свое огорченіе со стойкостью древнихъ спартанцевъ. Вопросъ этотъ для меня до сихъ поръ остался открытымъ. Во всякомъ случаѣ они были очень добры. Одинъ изъ моихъ дядей даже принесъ мнѣ корзиночку съ сандвичами и бутылочку чего-то крѣпко спиртуознаго «для ободренія на эшафотѣ», какъ онъ съ многозначительнымъ взглядомъ сообщилъ мнѣ.
Вообще, во снѣ мы ничему не удивляемся, но все принимаемъ, какъ нѣчто совершенно естественное и обыденное. Удивляться научаютъ насъ наяву «близнецы-тюремщики смѣлой мысли» — Знаніе и Опытъ.
Встрѣчаясь въ произведеніяхъ романистовъ и драматурговъ съ людьми, преисполненными всякихъ лучшихъ чувствъ, мыслей и порывовъ, мы удивляемся, потому что Знаніе и Опытъ внушили намъ, что такого сорта люди чрезвычайно рѣдки, пожалуй, даже и совсѣмъ не существуютъ въ дѣйствительности. Въ границахъ той же трезвой дѣйствительности мои близкіе были бы крайне удивлены, если бы узнали, что я совершилъ такое преступленіе, за которое судъ нашелъ нужнымъ приговорить меня къ повѣшенію. Вѣдь Знаніе и Опытъ говорили имъ, что въ странѣ, гдѣ силенъ законъ и полиція стоитъ на высотѣ своей задачи, граждане обыкновенно съ полнымъ успѣхомъ могутъ противостоять всякаго рода искушеніямъ, ведущимъ къ уголовнымъ преступленіямъ.
Но область сновъ недоступна для близнецовъ Знанія и Опыта. Они остаются за предѣлами этой области вмѣстѣ съ тѣмъ комочкомъ тяжелой, мертвой глины, часть которой составляютъ они сами, между тѣмъ какъ отрѣшенная отъ ихъ надоѣдливаго надзора смѣлая Мысль быстро проскальзываетъ сквозь темную калитку и свободно бродитъ по извилистымъ тропинкамъ во всѣхъ направленіяхъ перерѣзывающихъ «сады Персефоны».
Освободившись отъ стѣснительнаго убѣжденія бодрствующаго мозга, будто бы внѣ познаваемаго нашими внѣшними чувствами міра во всей вселенной ничего больше нѣтъ, нашъ духъ ничему не удивляется. Во снѣ мы летаемъ и нисколько не удивляемся этому; ходимъ совершенно голыми и не стыдимся. (Правда, вначалѣ мы немножко опасаемся, какъ бы насъ не забрала полиція, но успокоиваемся, когда замѣчаемъ что стражи общественнаго порядка и нравственности на насъ и вниманія не обращаютъ, тоже, повидимому, не находя ничего зазорнаго въ нашемъ «райскомъ» костюмѣ). Бесѣдуемъ съ нашими умершими родственниками и друзьями и упрекаемъ ихъ въ томъ, что они раньше не приходили къ намъ, но опять-таки нисколько не удивляемся тому, что они представляются намъ живыми, хотя мы и сознаемъ, что они давно умерли.
Вообще, во снѣ съ нами случается много такого, о чемъ человѣческій языкъ и передать не можетъ. Мы видимъ тотъ свѣтъ, котораго никогда не замѣчаемъ на сушѣ или на морѣ; слышимъ звуки, которыхъ не можетъ уловить ни одно бодрствующее ухо. Наше воображеніе дѣйствуетъ только въ то время, когда мы спимъ. Въ бодрствующемъ состояніи мы не умѣемъ имъ пользоваться, а просто работаемъ однимъ разсудкомъ. Силою этого разсудка мы лишь измѣняемъ, переставляемъ, распредѣляемъ по новому все то, что видимъ вокругъ себя. Но ни одному изъ насъ не удалось наяву прибавить хоть самую крохотную крѵпицу къ тому матеріалу, изъ котораго Знаніе и Опытъ строятъ намъ калейдоскопъ вселенной.