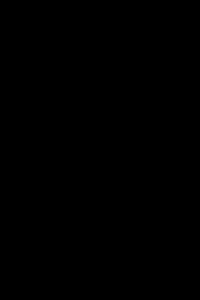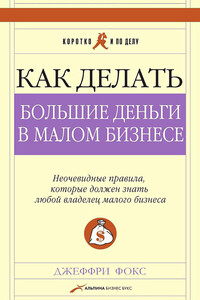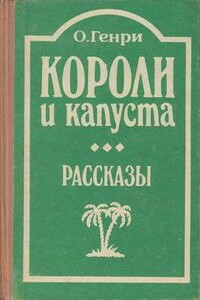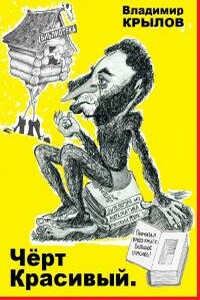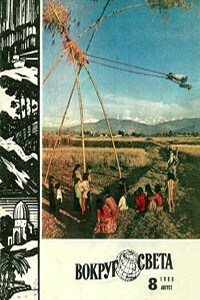I
Конец недели. Собираюсь домой: кроссворд — в стол, детектив — в портфель, тянусь к вешалке за пальто. Звучит в селекторе красивый грудной голос секретарши Верочки:
— Срочно к шефу!
Сразу скисаю. Это очень нехорошая примета, если требует начальник в конце рабочего дня, да еще в конце рабочей недели. Чертыхаюсь, проклинаю судьбу, но иду.
Приятно стоять у шефа на пушистом ковре, ворс ласкает ноги, будто сибирский кот, но на ковер, увы, обычно вызывают для головомоек. Уж так устроена жизнь — приятное всегда связано с какой-нибудь неприятностью: после банкета — изжога, после любви — женитьба.
Однако шеф смотрит миролюбиво и даже раздает улыбки, как премиальные. Угощает сигаретой с фильтром. Беру, хоть и не курю. Предлагает боржоми. Пью, хотя и нету жажды. Закончив подготовительную часть, он переходит к делу:
— Голубчик, есть у меня к тебе поручение.
— Какое?
— Большое.
— А конкретно?
— Больше, чем в прошлый раз, но меньше, чем в следующий. Исполнишь?
— А почему я?
— Есть мнение… Покажи свою руку.
Я кладу руку на стол, будто заявление на отпуск.
— Да, именно такая рука нам и нужна. Чистая, ухоженная. Для нашего дела нужны чистые руки. И по размеру подходит: крупная, сильная, будет издалека видна. Мне нравится ее форма: не женственная, но и не огрубевшая от физической работы. Эта рука способна творить чудеса. Ты знаешь, что у нас собрание на носу?
— Слыхал.
— Будем голосовать.
— А! Догадался! Боитесь, что проголосую против? Не волнуйтесь, не подведу. Как всегда, буду за.
Шеф поднимается, одергивает пиджак, как-то особенно торжественно поправляет галстук.
— Все наоборот, голубчик. На этом собрании ты должен проголосовать против.
— Я против?! Но зачем?
— Так надо.
— Странно. Раньше этого не требовалось.
— Времена меняются. Над нами уже стали посмеиваться: дескать, какое-то подозрительное единомыслие, ни у кого нет собственного мнения.
— Есть! — гордо заявляю я.
— У кого?
— У меня. Но я с ним не согласен.
— Тебе выпал трудный, но почетный жребий: впервые за всю историю нашей конторы ты поднимешь руку против.
Я шепчу: «Воды!» — и падаю в обморок. Отлежав, сколько положено, прихожу в себя и твердо заявляю:
— Никогда!
— Почему?
— Это не для меня.
— Чего ты боишься, черт возьми?! Вспомни Геракла. Вон какие подвиги совершил! Или возьмем Давида. Хилый юноша, от горшка два вершка, а ведь вышел против исполина Голиафа с одной рогаткой в руке. Или еще тебе пример — Жана д’Арк! Слабый пол, девственница, а поди ты — целую армию вдохновила! И нашей конторе потребовались герои. На повестке дня: героизм!
— Ладно, подниму руку против, но так, чтобы этого никто не увидел.
— Только гласно! С открытым забралом! Пусть твоя рука вспыхнет как факел и осветит нам путь. Образно говоря, конечно. Итак, я приказываю тебе быть смелым.
— Прикажите своей тете! — бросил я с вызовом.
— Что-о-о?! Как ты со мной разговариваешь?
— А кто вам дал право мне такое приказывать? Да я… я жаловаться буду!
— Кому?
— Вам!
Произошло чудо: я перестаю его бояться. Сверлю его насквозь взглядом, отмечаю рыжие брови, блеклые волосы, на лбу веснушки, хотя весной еще и не пахнет, оттопыренные смешные уши подчеркивают несоответствие между заурядной внешностью и незаурядной зарплатой. Вот уж никогда не подозревал, что я выше его ростом. Да, трудной и долгой тропой, виляя и околачиваясь в пути, перекуривая на каждом пеньке, брела ко мне смелость, и вот она наконец пришла. Я бью себя в грудь и заявляю на весь мир:
— Делайте со мной что угодно, но никогда, вы слышите? Никогда я не подниму на вас руку!
— Выговор вкачу!
— Не боюсь!
— Уволю! За отсутствие гражданской смелости!
— Нету такой статьи.
— К сожалению.
Выхожу, хлопнув дверью. Понимаю, что стал наконец героем.
II
Жена догадывается сразу. С первого взгляда. Ахает:
— Что? Приказали голосовать против?
— А как ты узнала?
— По твоему лицу. Его на тебе нет.
— Да, приказали.
— И что ты на это ответил?
— Отказался.
— Категорически?
— Конечно.
— Молодец! Ишь, чего захотели! При такой зарплате, да еще быть против! Ага, ага! Пусть других дураков поищут. Слава богу, в нашей семье еще никто никогда не был против: ни папа, ни мама, ни дедушка, ни бабушка. Мы можем гордиться: наша семья всегда была за!
— Он неприятностями грозит.
— Еще и грозит?! Пусть! Пусть!
— Уволит.
— За это и пострадать не грех. Святое дело.
— Но мы мебель хотели сменить.
— Старой обойдемся.
— Цветной телевизор нужен.
— Перебьемся.
— Детишек надо на ноги ставить.
— Твоя стойкость будет им лучшей подпоркой. Кем они вырастут, если их отец будет голосовать против? Кем? Отщепенцами? Изгоями?
В горле у меня щекочет от слез, я обнимаю жену, глажу по теплой, широкой спине.
— Я в тебя всегда верил. Всегда! Значит, ты со мной? До конца? Рука об руку?
— Всегда! Всюду! Хоть в Сибирь!
III
В воскресенье у меня свидание с Верочкой, той самой обладательницей прекрасного грудного сопрано, секретарем нашего шефа. Если учесть, что Верочка моложе меня на двадцать семь лет, и то обстоятельство, что о нашей связи никто не знает, легко представить удовольствие, с коим я пью кофе в ее крошечной однокомнатной квартирке, где так уютно, что все житейские бури кажутся нереальными. Верочка смотрит на меня своими необъятно синими, вобравшими всю синь небес, очами и спрашивает: