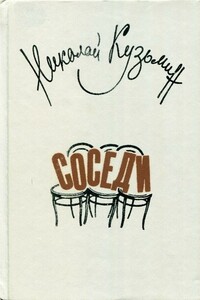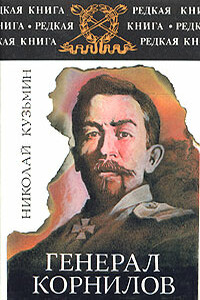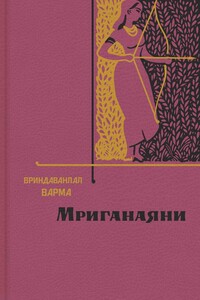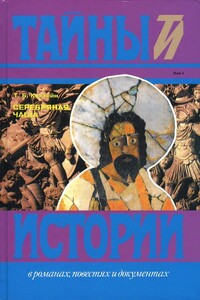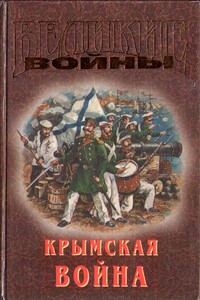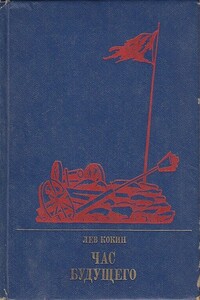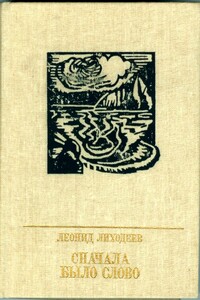К донесениям, поступившим в штаб в течение ночи, прибавилось наконец то, которого с нетерпением ждали. Его доставил рано утром конный нарочный.
Поднявшиеся после ночевки эскадроны чистили лошадей, когда со стороны мельницы, куда с вечера было выставлено усиленное охранение с легким пулеметом, раздался заполошный стук копыт. По бешеному аллюру опытное ухо кавалеристов уловило тревожную спешку.
Взводный командир Семен Зацепа, доставивший донесение, отыскал помещение штаба по распахнутым воротам и толчее ординарцев во дворе. Не убирая с подбородка ремешка фуражки, Семен соскочил с седла, подхватил шашку и одним махом, минуя ступеньки, взлетел на крыльцо.
Появление Зацепы произвело в деревне то движение, которое вызывает в напряженной боевой обстановке скачущий во весь опор всадник. Семена узнавали, и кавалеристы, провожая глазами пригнувшегося к конской гриве взводного, понимающе переглядывались: кажется, началось!
И жизнь эскадронов сразу приобрела осмысленную торопливость. День, как догадывались, предстоял горячий.
Штаб бригады разместился на скорую руку, по-походному. Со станций Моршанск, места выгрузки эшелонов, полки разворачивались с таким расчетом, чтобы с ходу вступить в бой. Шифровка, полученная в пути из штаба войск, сообщала, что центр антоновского мятежа находится в южных уездах губернии, однако многочисленные отряды мятежников, в частности так называемая первая повстанческая армия под командованием бывшего офицера Богуславского, угрожают самому Тамбову (этим объяснялась невиданная спешка, с какой бригада перебрасывалась с Украины в Тамбовскую губернию. Мятеж, поднятый в центре республики на третьем году Советской власти, принимал опасные размеры, грозя перекинуться в соседние губернии: Воронежскую, Пензенскую, Саратовскую).
Комбриг читал донесение в чистой половине большого деревенского дома, за столом, накрытым праздничной скатертью. Запустив руку в расстегнутый ворот гимнастерки, Котовский шевелил пальцами и, напрягая брови, морщился, дергал щекой: от чтения у него всякий раз резало глаза и начинала болеть контуженная голова. Обычно ему читали документы вслух, а приказы и распоряжения он диктовал. На этот раз он нетерпеливо разорвал пакет сам.
Пестрый, весь в клеточку, листок из какой-то купеческой амбарной книги помялся за горячей пазухой нарочного, отчего неровные строчки донесения казались еще корявей. Концы строк то загибались вверх, используя каждую чистую клеточку, то уплывали вниз, сбегая по самому краешку страницы. Старый вахмистр Криворучко, принявший командование полком, человек обстоятельный и упрямый, не признавал переносов и начатое слово обязательно заканчивал в строке. Эта крохоборская манера экономить бумагу начинала злить Котовского. Больше же всего комбриг был раздосадован напрасностью ожидания. Выходит, ничего задуманного не получилось, сорвалось окончательно.
Комиссар Борисов, поглядывая на мрачневшее лицо комбрига, догадывался, что в своем донесении Криворучко смог сообщить мало утешительного. Это было видно хотя бы по тому, что донесение получилось непривычно длинным, разгонистым, а бывший вахмистр не любил многословия. Да и не тот случай был, чтобы тратить время на писание. Несколько раз комиссар взглядывал на нарочного, однако Зацепа, запаленный в скачке, весь в пыли, — шашка, маузер, ремешок на крепком подбородке — как подал пакет и отступил к порогу, так и замер истуканом, дожидаясь разрешения скакать обратно. Из него и в доброе время каждое слово будто шашкой вырубаешь.
Пока Котовский дочитывал, все, кто находился в штабе, выжидающе молчали и смотрели на листок с донесением в руке комбрига. Криворучко со своим полком должен был нанести первый, отвлекающий удар по армии Богуславского. Другой полк во главе с самим комбригом рассчитывал ударить скрытно и внезапно. Была надежда, что с армией Богуславского (а это примерно половина сил мятежников) будет покончено в результате первого же стремительного боя.
Неожиданно Котовский приподнялся с табуретки и, не прерывая чтения, стал ловить створки раскрытого окошка. Борисов сунулся помочь. От деревенского колодца доносился голосище эскадронного командира Девятого, распекавшего старика Поливанова за упущенную на водопое цибарку. Ругался эскадронный по обыкновению забористо, его зычная брань висела над утренней деревней. Девятый, полный георгиевский кавалер, был убежден, что крепкое слово необходимо коннику так же, как шашка, и слыл в бригаде неисправимым матерщинником; таких виртуозных ругательств бойцы не слыхивали никогда, хотя были тоже народ тертый и на язык находчивый.
Прикрытое окошко нс могло заглушить пушечного голоса эскадронного, — расходясь, Девятый забирал все круче, выше:
— …в трон, в закон, в полторы тысячи икон, в тридцать три святителя, в сорок четыре благотворителя…
«Господи, да кончит ли он?» — подумал Борисов, заметив, как тяжелеют веки и в узкую полоску сжимаются губы Котовского.
— …и бабушку в загробное рыдание! — оборвал наконец Девятый, и комбриг с минуту сидел, уставившись в донесение. Потом вздохнул и красноречиво глянул на комиссара.