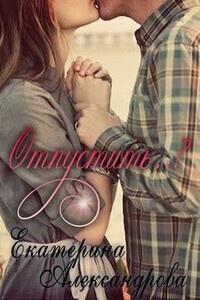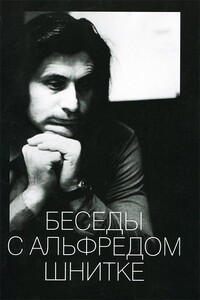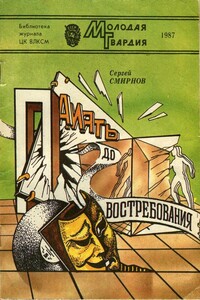О чем эта книга? О жизни. Но ведь все книги о жизни!
Эта книга — о жизни простой, будничной такой, какая она есть. Только ведь каждый писатель, если он писатель настоящий (я убежден, что П. Федотюк именно настоящий), видит жизнь по-своему. У героев рассказов Федотюка она будничная, обыкновенная, а вот светится в ней какой-то огонек, неяркий, но теплый, ласковый, освещает все немудреное их бытие. Очень часто это огонек любви, какой-то неясный, то ли с горчинкой, то ли таинственный, иногда подернутый дымкой тоски по чему-то несвершенному, несбыточному, ибо не все в человеческой жизни сбывается. Может, потому она и бесконечна, заманчива, наша жизнь. И люди, живущие в книге П. Федотюка, чем-то привлекают к себе. Может, тем, что стремятся по-своему к добру и свету.
В рассказах писателя меня привлекает стремление проникнуть в глубины человеческой души, к первоистокам чувств, побуждений и желаний, порой неясных и оттого требующих от писателя особой тонкости, умения с отдельных мозаических штрихов воссоздать картину, настроение. Это похвальное стремление в рассказах П. Федотюка играет все большую роль. Начинал он как последователь, я бы сказал, школы натуральной; правдивость, натуральность его рассказов и сейчас брать под сомнение не приходится. К авторским позитивам следует отнести и то, что он нигде не навязывает читателям своего мнения, он ему доверяет: читатель сам найдет правильные оценки и суждения.
При всех достоинствах прозы молодого писателя нужно признать, что не все его рассказы равноценны, иногда он не удерживается на «собственном уровне», порой ему трудно удержать читательское внимание. Но в целом это добротная и перспективная проза.
Прямо передо мной, забирая вверх, желтеет бархан. В изножье к нему присосался молоденький куст саксаула. Издали куст пушистый, как новорожденный зайчонок. Конечно, на самом деле он колючий и жесткий, но этой нечаянной свежести с лихвой достает оживить бесплодный песок пустыни. Бархан и молоденький куст — это все, что я вижу, если смотреть на запад, куда несколько дней назад ушли мои друзья. Теперь я каждый вечер жгу костер, чтобы им было легче заметить меня при возвращении.
Друзья возвратятся, и мы уйдем отсюда. Сильное тельце куста сперва запорошит песками, а после бархан — бесконечный кочевник — выплюнет ствол и пожухшие ветки. Но деревце, которое мгновенно станет старым, потому что природа украла и юность и зрелость его, совсем не умрет — жизнь держится в корне. И может, ему повезет — вцепится в новый бархан, и новые ветки с колючими иглами выбросит ствол, и снова кого-то они удивят ощущеньем прохлады на желто-горящем песке.
Ветер пустыни сделает все, чтобы замести и наши следы. Играясь, развеет остатки костра, растворит его пепел и угли в оранжевом свете безмолвья. Погонит консервные банки — что ему жалобный звон их, — утопит, зароет, попрячет, как волна ракушки, на самое дно. Ящерицы облюбуют подножие шалаша, вихрем промчится джейран или заяц-толай по бывшему нашему лагерю, бродяга-змея свернется в тугую спираль, предвкушая случайную жертву.
Но мы не исчезнем бесследно. Останутся клумбы песка со столбами по центру. Ветер бессилен расправиться с ними — плоть каждой клумбы мы укрепили скелетом из веток кандыма или акации. На крепких коротких столбах сделали надписи. Стихийным романтикам странствий они непонятны. Но тем, кто придет за нами, цифры и буквы расскажут, как письма, о трассе, которую мы прошли, и вскоре протянется здесь лента канала…
Знаете, как пахнет костер, когда гаснет вечернее солнце? В нем и степь, и спокойные кони, и тропка к родимому дому, и все это с легким налетом усталости, праздности, грусти. Тает дым, словно след минувшего дня, еще одного к тем, что вытянулись караваном, и уже не видать головы его, и реальность перемежается с грезами, но нет брода у времени, которое их разделяет. Дым — добрый дух огня — ласкает, пьянит своим танцем. Тепло — от огня. Веселеешь — от дыма. От сигареты тоже сочатся сизые паутинки. Курение — друг ожидания, надежнейшее средство укоротить дорогу. Вот говорят, что и жизнь оно укорачивает. Как много стало известно помех человеческой жизни!
А ведь когда-то я не курил. Много воды утекло с тех пор… Это фигуральное выражение исподволь напомнило мне о неутолимой жажде, преследующей человека в пустыне все его дни. Особенно трудно было в самом начале. Когда хватались за теодолит, засовывали за ремень топорики и двигались своим маршрутом, могли взять с собой только по небольшой фляге. Те фляги — произведение настоящего гения: сшитые из парусины, с горлышком от обыкновенной бутылки, долго сохраняли воду прохладной. Беда только, что ни у кого из нас не хватало терпения сберечь воду до конца дня. Из-за этого делали частые привалы, совершали переходы к верблюдам, ожидавшим нас вместе с погонщиками в условленном месте.
Но понемногу втянулись. Со временем я привык и к ранним подъемам — работать было удобнее при утренней и вечерней прохладе.
Говорят, что пустыня однообразна и скучна, — неправда. Сколько тут такого, что впечатляет глаз и трогает душу! Необыкновенно интересные ландшафты — ярко-желтые, с красными отблесками пространства песка, испещренные застывшими волнами, гребни которых и в небольшой ветер дымятся, словно притихшие вулканы; тут и там где гуще, где реже взъерошенные пятна саксаула, кандыма и пустынной акации, а местами настоящие рощицы, в тени которых могло бы спрятаться даже стадо коров. Шустрые юркие птички, похожие на наших дроздов, одинаково хорошо передвигающиеся по земле и быстро шныряющие в воздухе, хамелеоны и маленькие вараны не боятся нас, наверное, потому, что еще не встречали людей. Нередко наши охотники приносят на ужин зайчатину. Косые ведь тоже легко дают взять себя на мушку, если кто-то раньше не напугал их неудачными выстрелами. А вблизи Амударьи, прозванной местными жителями Джейхун, то есть Бурлящей, к нам забегали джейраны, удивительно грациозные создания.