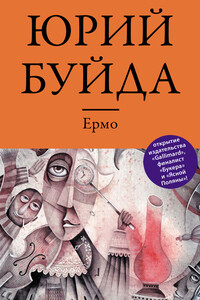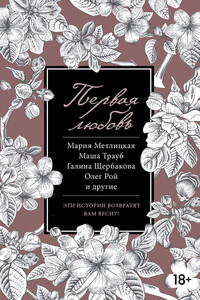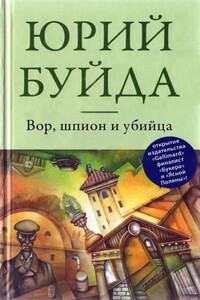Крониду Любарскому
Дом расцветал весной. Лиза и ее муж Николай вытаскивали из кладовки стремянку и начинали красить огромный барельеф, нависавший над входом. Из дебрей причудливого орнамента — сплетение лиан и змей, круговращенье звезд и подсолнухов — мускулистые кентавры с аккуратно отбитыми мужски ми признаками хищно тянулись к златогрудым девам с вьющимися чешуйчатыми телами, которые, глядя в сад, демонстрировали плоские, но безупречно красивые лица и поддерживаемый руками обвитый лаврами овальный щит с датой постройки дома — 1888 год, где восьмерки, подобно змеям, кусали себя за хвосты, а заполненные золотой краской шесть колец издали казались гроздьями женских грудей. Руководствуясь собственными представлениями скорее о должном, нежели о прекрасном, Лиза и Николай расцвечивали барельеф золотом и чернью, киноварью и зеленью, пока он не начинал звучать подобно первому аккорду весны — невразумительно, но мощно…
Дом стоял на отшибе дачного поселка, вольготно расползшегося по гребню холма, отлого спускавшегося в речную пойму, через которую — вдали — был переброшен железнодорожный мост. Несколько раз дом пытались перестроить, но всякий раз дело до конца не доводили: хозяева пропадали то в лагерях, то на войнах (в России трудно быть домовладельцем). Прирастали какие-то клетушки, лесенки, башенки, крылечки, но все это вскоре ветшало, сливаясь со старой основой, пока наконец не слиплось в нечто громоздкое и бесформенное — скорее явление природы, нежели дело рук человеческих. Густые кусты сирени, черемухи, шиповника, яблоня, тополь и береза врастали в дом, становясь такими же его частями, как балясины лестниц, люди или электрические лампочки. В начале лета тополиный пух летал по комнатам, оседал на картинах и иконах, слоисто колыхался на крашеных деревянных полах…
Когда-то этот дом, принадлежавший актрисе мамонтовской оперы, занимали четыре семьи, на после войны, поделенный надвое, он остался за Исуповыми и стариком по прозвищу Енерал, бывшим не то денщиком, не то помощником советского маршала. По утрам Енерал занимался гимнастикой в своем уголке сада. Кепка с лаковым козырьком, трусы до колен и высокие шнурованные ботинки. Зарядку он завершал маршировкой, вызывавшей недоумение у Леты Александровны Исуповой. Однажды старик объяснил: «Для собственного удовольствия. Пройдусь строевым хотя бы двадцать шагов — и весь день хорош». От его-то выкриков — «Ас — два! ас — два!» — Лета Александровна обычно и просыпалась, легко всплывая со дна полузабытья сквозь бесплотную фауну сновидений.
И в свои сто три года она не боялась смотреться в зеркало, перед которым, как гласило семейное предание, любила прибираться Екатерина Великая. Из бронзового овала, залитого венецианским стеклом, старухе смиренно улыбалась женщина с хорошими зубами, бесформенным жабьим лицом и слегка косящим взглядом. Причесавшись и помассировав отвислые щеки, она облачалась в светлое — летнее — ситцевое платье с отложным воротничком и повязывала голову широкой голубой лентой, гармонировавшей с ее чуть выцветшими васильковыми глазами.
В открытое окно легко впорхнула птица, суматошно метнулась к иконке, перед которой горела электрическая лампадка, и вылетела наружу, ударившись в куст сирени, с которого на землю с шумом посыпались крупные капли росы. Обмахнувшись крестом, Лета Александровна отправилась вниз — глянуть на детей да завтракать.
Первый этаж давным-давно превратился в «инкубатор» — так прозвала его Лиза, помогавшая Лете Александровне по дому. Сюда привозили детей политзеков брежневских лагерей, дочерей и сыновей многочисленных родственников и свойственников да и просто знакомых и знакомых знакомых. Вот и сейчас в доме «дачничали» дети из Карабаха и Чечни. Белые и смуглые ребятишки с утра до вечера носились по комнатам, по саду, играли, дрались, влюблялись и секретничали. И все они знали: когда после полудня Лета Александровна отправляется в «колоду» — так называлось громоздкое деревянное кресло под полотняным зонтом, вросшее — или выросшее — у садовой ограды, — беспокоить ее могли лишь Лиза да сын — Иван Абрамович, изредка наезжавший из Москвы. В «колоде» хозяйка проводила несколько часов. «Пора все вспомнить и привести в порядок, — говорила она Лиане, молодой армянке, ухаживавшей за карабахскими и чеченскими детьми. — Наконец-то я достигла возраста, когда можно не сравнивать, а просто вспоминать».
Перед сном она благодарила Бога за счастье, которое Он так щедро дарил и дарил ей: «За что мне столько одной, Господи? И как мне благодарить Тебя?»
Она только что закончила Смольный институт и колебалась в выборе: ехать ли сестрой милосердия в истекающую кровью Боснию — или же продолжать учебу в подготовительном и пионерском классах? Вечером собирались праздновать день ее рождения. По комнатам большого дома в Игнатьеве летал тополиный пух. Одетая по-домашнему, в сарафане, с лупившимися от загара плечами, она влетела в кабинет отца. Из кресла, стоявшего подле низкого столика у окна, поднялся рослый военный. «Князь, моя дочь Леточка… Елена… — Отец насмешливо фыркнул. — Пейзанка!» Мужчина склонился к ее руке, и на мгновение ее обдало запахом его одеколона и той свежестью, которую источало его большое сильное тело, обтянутое красивым мундиром. Он выпрямился и с улыбкой посмотрел ей в лицо. «Почему же вас зовут Летой, княжна? — спросил он, откровенно ею любуясь и в то же время — смущаясь. — Леточка…» Виски его были тронуты сединой. «Семейная тайна! — Ей вдруг захотелось показать ему язык, но сдержалась, поймав себя на том, что он ей тотчас понравился. — Умру, а не выдам!»