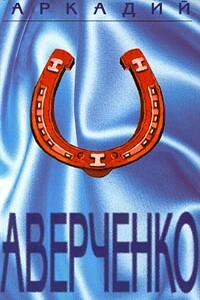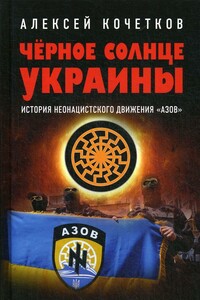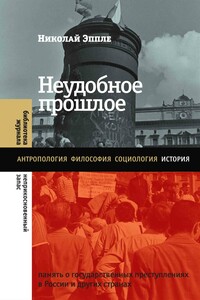Вадим КОВСКИЙ
ЛАНДШАФТЫ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
Я прошел по его следу
через бескрайние равнины
России и Азии, но он все
ускользал от меня… Я видел на
белой равнине отпечатки его
огромных ног.
Мери Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей
УРОКИ «ПОЛИТГРАМОТЫ»
Деспотия пришла в страну на гребне революции и споров о ней. Пришла поначалу скрытно, под маской народовластия, опутанная паутиной многочисленных декретов демократического содержания, двусмысленных законов, невыполненных указов, недолгой полемики с проигравшими партиями. Сразу после октября 1917 года была создана ВЧК, орден «меченосцев революции». После покушения на Ленина был развязан Красный террор, предшественник будущего. Когда основоположник большевистской идеологии умер, так и не выбрав преемника, его сменил Сталин, полтора десятилетия набиравший силу и в конце концов развязавший в стране Большой террор. Антисоветская пресса была полностью зачищена, советские газеты служили источником информации только тем, кто научился читать их правильно, между строк. Однако те, кто хотели знать правду о происходившем, ее узнавали. Но узнавали теперь из слухов, из оппозиционных разговоров на кухне, из перешептываний, которые постепенно тоже прекратились ввиду подслушиваний и доносов.
Ночью, когда вождь народов не спал, мучаясь бессонницей, не спала и вся страна. Работали начальники всех министерств и ведомств, ожидая возможного вызова в Кремль. Но ведь не спали и семьи в соседних квартирах, погасив свет и мучительно вслушиваясь в шуршанье шин: не у их ли подъезда остановился черный воронок. А когда воронок останавливался у вашего подъезда, то из темных окон соседних квартир можно было увидеть, кого на этот раз выводили. К тому же родственники часами выстаивали у окошек тюремной Лубянки с передачами, безуспешно пытаясь узнать о судьбе и местонахождении арестованных. По утрам страна оживала и люди шли на службу, где, делая бодрый вид и радуясь, что пережили еще одну ночь, проводили партийные собрания, клеймя очередных врагов народа.
В семьях о политике при детях практически не говорили, и я только через много лет после смерти отца узнал о судьбах трех его братьев. Один был расстрелян в Томске в 1937 году за дореволюционную принадлежность к партии эсеров, другой воевал в армии Врангеля и сгинул бесследно на Перекопе, третий вывезен во время войны гитлеровцами из Киева в Германию на трудовую повинность, вернулся на родину тяжелобольным человеком и вскоре умер. Незадолго до смерти отца я случайно натолкнулся в знаменитом беломраморном книжном каталоге Ленинки (сейчас он совершенно разорен и сокращен библиографическими чистками) на библиографическую карточку маленькой, 1870 года, брошюрки доктора Антона Дмитриевича Ковского «Кеммернские серные воды Курляндии». Я написал отцу во Фрунзе, куда нас занесла эвакуация (в Москву отец так и не вернулся): не наш ли родственник, фамилия достаточно редкая. Отец равнодушно ответил, что, наверное, это мой прадед, поскольку дед был Николай Антонович, а он сам — Евгений Николаевич. И больше этой темы не касался. Впоследствии я понял причины его равнодушия: прадед оказался действительным статским советником, в генеральском чине, по-нынешнему говоря, а отцу вполне хватало для советской биографии и трех незадачливых своих братьев, которых он в ней не упоминал.
Я родился за два года до начала Большого террора, захватил его еще ребенком и прожил в его лапах вплоть до смерти Сталина. В условиях Великой Отечественной войны террор, по существу, продолжался, приняв по необходимости несколько смягченные формы по отношению к гражданскому населению, но распространив всю силу на армию, с полководцами которой Сталин успешно расправился еще за три года до начала войны.
Тем не менее многие годы я вместе с подавляющим большинством моих сограждан подходил к советской действительности, в атмосфере которой рос, учился и работал, как к положительной реальности. Или как к неизбежности, данной нам не столько в размышлениях (они как раз не поощрялись), сколько в «ощущениях». К тому же нас окружали плотные слои пропаганды и дезинформации. Конечно, лучшие из нашего поколения даже в тяжелейших обстоятельствах, если только они не угрожали собственной жизни и жизни близких, ухитрялись сохранять порядочность. Но в широком историческом масштабе все мы оставались по одну сторону баррикад.
В отличие от представлений великой выдумщицы Мери Шелли, согласно которым ученый, создавший убийцу Франкенштейна, гоняется за ним по огромным пространствам России и Азии с целью его уничтожить (эта география сама по себе представляет замечательную догадку!), в СССР люди были вынуждены ходить с чудовищем чуть ли ни в обнимку.
«Я ведь был воспитан школой в соответствии с моралью того времени, — писал о себе Олег Басилашвили. — Творчество Цветаевой, например, казалось мне враждебным. Когда из страны высылали Бродского, мне до этого не было никакого дела: был занят своей карьерой. Предпочитал не высовываться. Ведь в стае жить всегда легче. Сейчас больно все это вспоминать. Стыдно за себя». Такого рода индивидуальные покаяния звучали и звучат многократно — и чаще всего в устах деятелей искусства и культуры. Ничего подобного вы не услышите, скажем, от политиков, полжизни посвятивших служению советской власти и ее воинствующему атеизму, а ныне осеняющих себя крупным крестом во время церковных молебнов. О покаянии государственном нечего и говорить: вряд ли мы когда-нибудь его дождемся, оставив это малоприятное занятие немцам.