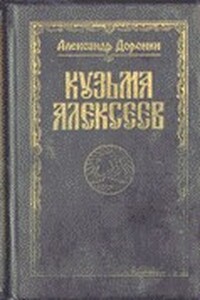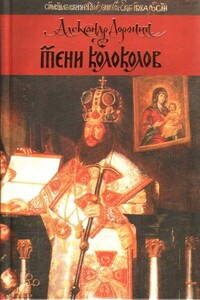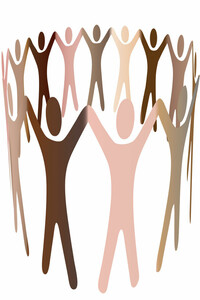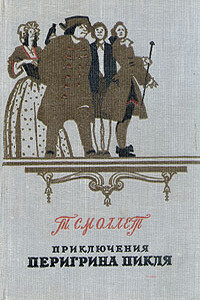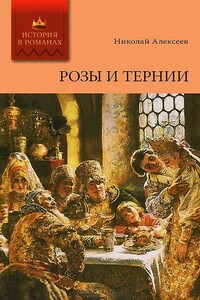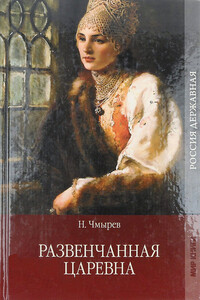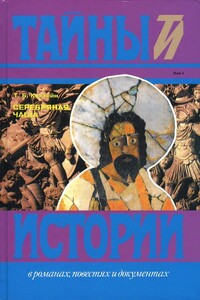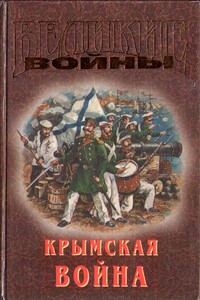С горы Отяжка, сплошь покрытой непроходимым лесом, донесся трубный лосиный зов. Лесной царь словно призывал кого-то разделить свое одиночество, а, может быть, заявлял о своих правах на эту гору, лес, весь окружающий его мир.
Жители Сеськина в эту зиму видели лося часто и дивились его огромному росту. Крупную голову лесного красавца венчали лопатообразные рога: каждый о шести ветках, выросших из единого широкого корня. На лбу его — белая приметная звездочка. Спина, крепкая и мощная, лоснилась на солнце. Люди между собой называли лося Отяжкой — по имени горы, на которой он появился. И после каждой нечаянной встречи с ним рассказывали друг другу обо всех мельчайших подробностях. Лось сторонился человека, к селу близко не подходил, но и гору не покидал. А гора Отяжка была для сеськинцев их хранительницей и кормилицей. С северной стороны она защищала село от пронизывающих ветров и метелей. Летом и осенью кормила грибами, ягодами да дикими яблоками, которых в лесной чаще было видимо-невидимо. Давала тепло очагам, а нередко наполняла котлы дичью. Однако лосей до нынешнего года там не водилось. А этот откуда-то пришел и уходить не спешит.
Лось подогнул передние ноги и опустился на колени, покрытые ороговевшими мозолями, и снова замычал. Трубно, надсадно. В глазах его тревогой полыхнуло пламя — это отразились пылающие на вершине горы костры. Около них суетились люди. До лося долетали их громкие голоса. Кто они, эти двуногие? Не те ли, которые прошлой весной убили его лосиху, а его самого обожгли чем-то горячим?
Тогда они мирно паслись в Лысковском лесу, наслаждаясь первой зеленью, теплом, слушая птичьи голоса. Прекрасный день не обещал ничего худого. Оба лося чутко прислушивались только к одному: как вздрагивал и ворочался в материнском чреве их детеныш, которого они ждали со дня на день. Они увлеклись и пропустили опасность. Рядом раздался оглушительный грохот, и лося ослепила яркая вспышка. Лосиха повалилась на бок. Ее стон заглушили своим стрекотаньем сороки. Лось не подчинился инстинкту, остался на месте, не в силах осознать беду. И только, когда раздался второй удар и его ногу обожгло огнем, он молнией метнулся в кусты, и заросли ивняка надежно укрыли его от опасности. Несколько раз он в отчаянии звал подругу. Но отвечало ему только эхо.
Лось укрылся на дне глубокого оврага, по дну которого, тихо журча, текла узенькая прохладная речка. Он жадно напился. Вода смыла кровь с его ноги, пробитой мушкетной пулей, и облегчила его страдания. Потом он много дней отлеживался под большой корягой и ждал, когда боль покинет его израненные тело и душу. Ночью на него смотрели звезды, перемигиваясь друг с другом, а днем — старый ястреб, стороживший свое гнездо на соседнем дереве и ворчливо переговаривающийся со своей самкой: «Курр, кырр…» Лось не понимал ни языка звезд, ни языка ястреба, он только шумно и тяжело вздыхал и закрывал глаза, чтобы не видеть своего бесконечного одиночества.
Когда он смог встать на раненную ногу и на всех четырех спуститься к воде на дно оврага, то понял — пора уходить. Он покинул лес, где они с лосихой провели не одну зиму, родной и такой знакомый. Два дня и две ночи он шел, куда вел его вечный инстинкт жизни. Гора и густой лес вокруг показались ему безопасными, а люди, которых он видел издали, не делали попыток бросить в него огонь. Он остался тут. И теперь, шевеля толстыми губами, втягивая ноздрями воздух, пахнувший сладким дымом, он спокойно разглядывал село, спрятавшееся в ложбине, а потом, величаво повернув рогатую голову в сторону костров на вершине, опять протяжно заревел. Ответа не было. И лось, раздвинув своей могучей грудью кусты, скрылся из виду.
* * *
В наступающих сумерках вырубленная углежогами поляна на вершине горы при ярком свете костров казалась нарисованной на холсте: четкие контуры деревьев по краям, раскаленно-красные пятна огней посредине. Приглядевшись и привыкнув к контрасту света и тьмы, можно было различить остальное — четыре пузатые печи, сложенные из камней, и четыре человеческие фигуры возле них. Здесь жгли уголь на поташ. Сначала печи набивали дубовыми и ольховыми дровами, которые жгли, получали уголь, из угля — золу. Затем эту золу разводили водой, полученной кашицей обмазывали сосновые чурбаки, жгли их снова до получения золы уже беловатого цвета, которая и звалась поташом. Без него не обходилось ни мыловаренное, ни стекольное, ни военное производство. Правда, об этом сеськинские мужики не имели никакого представления. Они лишь знали, что поташ, который их заставляют добывать хозяева, в драку берут купцы и на лодках везут в Нижний Новгород, Москву, Астрахань и другие неведомые им города.
Одно только Сеськино поставляло десятки тысяч пудов поташа, уничтожая для этого лучшие леса графини Софьи Сент-Приест, князей Петра Трубецкого и Егора Грузинского.
Перед крайней печью, разинутая пасть которой была охвачена огнем, на куче сосновых веток сидели трое бородатых мужиков и паренек. Пламя освещало их чумазые лица. Все слушали одного. Виртян Кучаев, так звали бородача, заунывным голосом тянул грустную эрзянскую песню. В ней рассказывалось о барине, который глумился над своими крепостными. За то и повесили обидчика в глухом лесу на осине. Когда Виртян умолк, слышно было только потрескивание дров в печах. Все молчали и думали о своем. Тишину нарушил паренек: