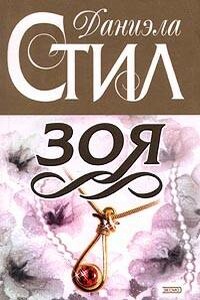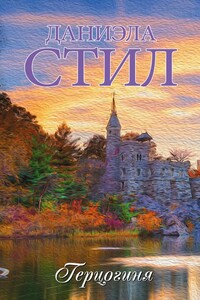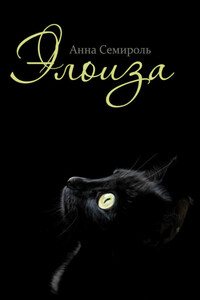Утренний свет, пробившись из-под шторы, осторожно проник в комнату. Динна Дюра открыла один глаз и посмотрела на часы: 6.45. Если встать прямо сейчас, то у нее будет целый час – а то и больше – времени, которое она может посвятить только себе. Час тишины и покоя, когда Пилар не будет дерзить и огрызаться, когда никто не позвонит Марку-Эдуарду из Брюсселя, Лондона или Рима. Драгоценное время, когда она сможет побыть одна и спокойно подумать. Динна осторожно выскользнула из-под одеяла, поглядывая на Марка-Эдуарда. Он спал на другой стороне кровати. Очень далеко от Динны. Вот уже несколько лет они спали каждый на своей половине кровати, на таком расстоянии друг от друга, что между ними можно было бы положить еще одного человека, а то и двух. Не то чтобы они вообще больше не встречались посередине, встречались – иногда. Когда Марк-Эдуард не был в отъезде, не был слишком усталым, приходил домой не очень поздно... Словом, время от времени.
Динна бесшумно достала из стенного шкафа длинный шелковый халат цвета слоновой кости. В раннем утреннем свете она казалась юной и очень хрупкой, ее блестящие темные волосы ниспадали на плечи, как соболья накидка. Динна наклонилась за шлепанцами, но их не оказалось на месте. Наверное, их снова позаимствовала Пилар. Ничто в доме не было неприкосновенным, даже шлепанцы – во всяком случае, ее шлепанцы. Улыбаясь своим мыслям, Динна босиком прошла к двери, толстый ковер поглощал звук шагов. В дверях она еще раз оглянулась на мирно спящего Марка. Во сне он казался невероятно молодым, почти таким же, как девятнадцать лет назад, когда они познакомились. Динне вдруг захотелось, чтобы он проснулся, протянул к ней руки и пробормотал с сонной улыбкой, как много лет назад: «Reviens, ma cherie. Вернись в постель, ma Diane. La belle Diane»[1].
Уже тысячу лет она не была для него «прекрасной Дианой». Для Марка, как и для всех остальных, она была теперь просто Динной. «Динна, ты пойдешь со мной на обед во вторник? Динна, ты знаешь, что дверь гаража стала плохо закрываться? Динна, кашемировый пиджак, который я только недавно купил в Лондоне, после химчистки совсем потерял вид. Сегодня вечером я улетаю в Лиссабон (или в Париж, или в Рим)». Иногда Динна спрашивала себя, помнит ли Марк те, прежние, времена, когда она была для него Diane, те месяцы перед их свадьбой, когда они так неохотно покидали кровать, много смеялись и пили кофе в ее каморке или нежились на солнышке у нее на крыше. То были золотые деньки. Как-то они тайком удрали на выходные в Акапулько, а в другой раз провели четыре дня в Мадриде, делая вид, что она – секретарша Марка... Динна мысленно перенеслась в те далекие времена. Почему-то раннее утро обладало странным свойством напоминать Динне о прошлом.
«Diane, mon amour, может, вернешься в постель?» Стоило Динне вспомнить эти слова, как ее глаза заблестели. Ей тогда было девятнадцать, и она всегда была рада вернуться в постель к Марку. Она была застенчивой, но очень влюбленной, влюбленной в Марка. Каждый час, каждая минута ее жизни были тогда наполнены чувствами. Это отражалось и в ее живописи, ее картины буквально излучали сияние любви. Динне вспомнились глаза Марка, когда он сидел в ее студии, наблюдая, как она рисует. Он и сам работал – у него на коленях лежали бумаги, в которых он время от времени делал какие-то пометки. Иногда он хмурился, читая, а потом поднимал взгляд от бумаг, улыбался своей неотразимой улыбкой и говорил:
– Ну что, мадам Пикассо, может сделаем перерыв на ленч?
– Еще минутку, я почти закончила.
– Можно взглянуть?
Марк делал вид, будто собирается обойти мольберт и посмотреть, что на нем, ожидая, что Динна, как обычно, вскочит и попытается ему помешать. Она всегда так и реагировала, пока не понимала по глазам Марка, что он шутит.
– Прекрати, ты же знаешь: пока я не закончила картину, смотреть нельзя!
– Но почему? Ты что, рисуешь шокирующую обнаженку?
Ослепительно голубые глаза Марка лучились смехом.
– А если и так, это бы тебя расстроило?
– Очень. Ты еще слишком молода, чтобы рисовать шокирующую обнаженную натуру.
– Неужели?
Иногда Динна воспринимала его слова всерьез, и тогда ее большие зеленые глаза становились просто огромными. Марк во многих отношениях заменил ей отца, стал для нее олицетворением мужского авторитета, силой, на которую она полагалась. Смерть отца совершенно ошеломила Динну, и когда в ее жизни появился Марк-Эдуард Дюра, ей показалось, что он послан ей Богом. Оставшись без отца, Динна жила поочередно у разных тетушек и дядюшек, но никто из них не горел желанием принять ее в свою семью. Наконец в восемнадцать лет, после года скитаний по родственникам матери, Динна стала жить самостоятельно. Днем она работала в бутике, а по вечерам училась в школе искусств. Именно учеба поддерживала ее дух и давала силы жить, только ради нее она и жила. Ей было семнадцать лет, когда отца не стало. Он умер мгновенно, разбился на своем самолете, на котором так любил летать. Отец, по-видимому, считал себя не просто неуязвимым, но вообще бессмертным, потому что он никогда не строил никаких планов относительно будущего Динны. Ее мать умерла, когда девочке было всего двенадцать, и в течение нескольких лет в ее жизни не было никого, кроме отца. Родственники по материнской линии, живущие в Сан-Франциско, были забыты, всякое общение с ними было прекращено этим экстравагантным и эгоистичным человеком, которого они считали виновным в смерти жены. Динна плохо понимала, что произошло, она только знала, что «мамочка умерла». Мамочка умерла. Эти слова, сказанные отцом в одно унылое холодное утро, навсегда запечатлелись в ее памяти. Не стало мамочки – мамочки, которая заперлась с бутылкой в спальне, спряталась и от внешнего мира, и от собственного ребенка, которая всякий раз, когда Динна стучала в дверь, неизменно отвечала: «Чуть позже, Дорогая». Это «чуть позже» затянулось на десять, а то и на все двенадцать лет. Динна одна играла в своей комнате или в коридоре, а ее отец в это время летал на своем самолете или неожиданно отправлялся в деловую поездку с друзьями. Было трудно сказать, то ли отцу не сидится дома, потому что мать пьет, то ли она пьет, потому что его никогда нет дома. Как бы то ни было, Динна оставалась одна. До маминой смерти. После этого отец завел нескончаемый разговор на тему «что, черт подери, делать». Потому что, «видит Бог, я ничего не смыслю в воспитании детей, тем более маленьких девочек». Отец хотел отослать Динну в школу, в закрытый пансион, «чудесное место, где очень красиво, есть лошади и много новых друзей». Но Динна была в таком отчаянии, что отец в конце концов смягчился. Дочь не хотела ехать ни в какое «чудесное место», ей хотелось остаться с ним. Волшебный папа на самолете, человек, привозивший ей подарки из разных дальних мест, он заменял ей любое самое расчудесное место. Теперь, когда женщины, вечно скрывавшейся в спальне, не стало, у Динны не осталось никого, кроме него.