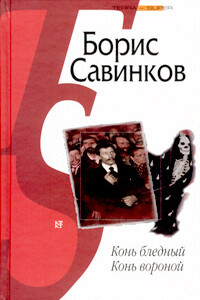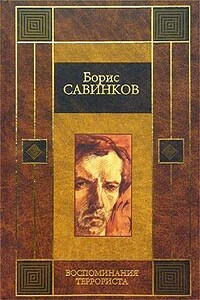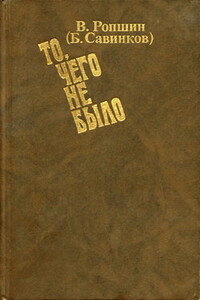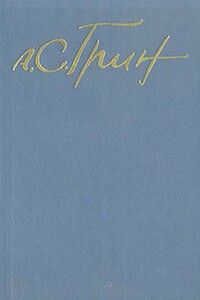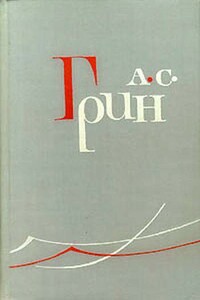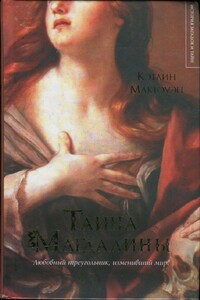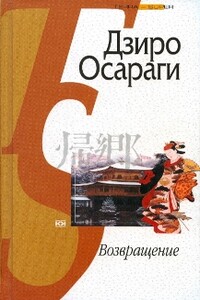Вчера вечером я приехал в Москву. Она все та же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная.
У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель «турист».
В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собою из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой и у меня по ночам болит голова.
Я сегодня пойду по Москве. На бульварах темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забыты люди. А в сердце святые слова:
«Я дам тебе звезду утреннюю».
У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жмется ко мне и говорит:
— Ведь ты меня любишь немножко? Когда-то, давно, она отдалась мне, как королева: не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь. Я говорю:
— Посмотри, какой нетронутый снег. Она опускает голову и молчит. Тогда я говорю:
— Я вчера был в Сокольниках. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез. Я читаю в ее глазах:
— Ты был без меня.
Послушай, — говорю я опять, — ты была когда-нибудь в русской деревне?
Она отвечает:
—Нет.
— Ну, так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видела? Нет? Ты не поняла? Нет?
И она шепчет:
—Нет.
А я думаю об Елене.
Генерал-губернатор живет у себя во дворце. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда штыков и нескромных взглядов.
Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих — извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна химик. Она приготовит снаряды.
У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах дворца мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.
Я его видел сегодня. Я ждал его на Тверской. Я долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались. Улица замерла.
Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою. Ручка дверец изгибом, желтые спицы колес. Следом сани, — охрана.
В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.
Счастливый, медленно я вернулся домой.
Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но я хочу его смерти. Я знаю: его необходимо убить. Необходимо для террора и революции. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Если бы я мог, я бы убил всех начальников и правителей. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.
Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что министра можно убить, а революционера нельзя. Говорят и наоборот.
Я не знаю, почему нельзя убивать. И я не пойму никогда, почему убить во имя свободы хорошо, а во имя самодержавия дурно.
Помню, — я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке, у изрытой дождем дороги. Иногда шептались березы, пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял среди берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.
Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное — жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?
Федор кузнец, бывший рабочий с Пресни. Он в синем халате, в извозчичьем картузе. Сосет с блюдечка чай.
Я говорю ему:
— Ты был в декабре на баррикадах?
— Я-то? Я в доме сидел.
— В каком доме?
— А в школе, в городской то есть.
— Зачем?
— В резерве был. Две бомбы держал.
— Значит, ты не стрелял?
— Как нет? Стрелял.
Так ты расскажи.
Он машет рукой.
— Да что… Артиллерия пришла. Стали в нас из пушек палить.
— А вы?
— Ну и мы… Из пушек мы, говорю, палили. Сами на заводе делали. Маленькие, вот с этот стол, а бьют хорошо. Человек пятнадцать мы из них положили… Ну, тут скоро шум большой вышел. Потолок бомбой пробило, человек восемь наших взорвало.
— А ты что?
— Я? Что ж я? Я главнее в резерве был. В угле с бомбами находился … А потом приказ вышел.
— Какой приказ?
— От комитета приказ: уходить. Ну, мы видим: дела хоть закуривай. Подождали малое время, ушли.
— Куда ж вы ушли?
— В нижний этаж ушли. Там ловчее стрелять было.
Он говорит неохотно. Я жду.
— Да, — продолжает он, помолчав, — была тут одна… со мной солидарная… вроде будто жена.