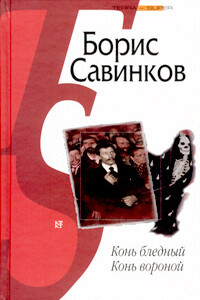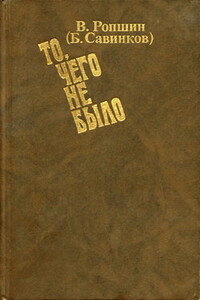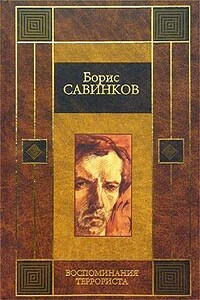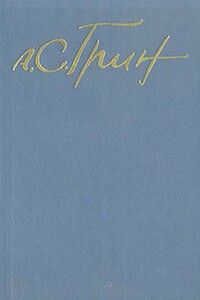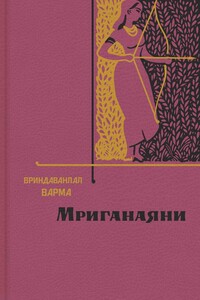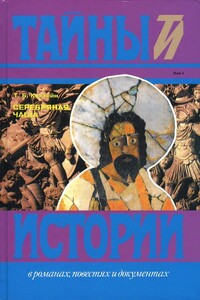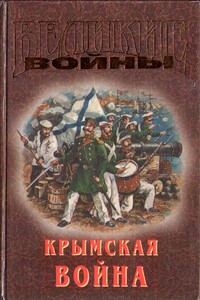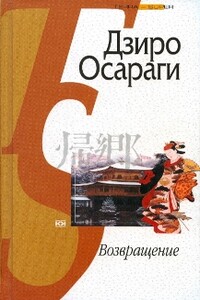«…и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей».
Откр. VI, 5.
«…кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».
I. Иоан. II.11
Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.
— Садись.
— Постою, господин полковник.
— Садись, вот здесь, напротив меня.
Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краюшек стула.
— Ты рабочий Путиловского завода?
— Так точно.
— Я взял тебя на бронепоезде «Ленин»?
— Так точно.
— Что я сказал тогда? Повтори.
Он задумался и поднял глаза.
— Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют…
— Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу… Так?
— Так точно.
— А теперь я знаю, что ты коммунист.
Он вздрогнул.
— Сознавайся, кто еще в комячейке?
— Не могу знать, господин полковник.
— А что с тобой будет, знаешь?
— Воля ваша.
— Хорошо. Ординарцы!
Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.
— Ординарцы! Полтораста плетей!
Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же, в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.
— Господин полковник!
«Сорок два… Сорок три… Сорок четыре»… Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: «Ишь, ворочается… На-голову, Федя, садись»… Это «работал» Егоров.
Егоров — седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это — «бабье дело», а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:
— За что ты их ненавидишь?
— Кого?
— Коммунистов.
— Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили… Даже пес жалеет своих щенят… На кострах жарить их надо.
— Да ведь белые за помещиков.
— Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.
— Когда?
— А вот время придет.
Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:
— Язва. Отстань. Я не за бар, — за Рассею.
За Россию… До войны он, наверное, говорил: «мы — скобари», и знать не хотел «калуцких». А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России «бесов».
Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.
На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.
Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение — смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта — американские доллара; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.
Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:
Полюбили сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича,
И все такое прочее…
Федя — художник. В свободное от «занятий» время он рисует «картинки». Одну из таких «картинок» он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: «Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин».
Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву (маршалы Наполеона — Ред.) На самом деле, он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:
— Граммо-граммо-граммофон… Пате-пате-патефон… А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?
Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.
Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы — скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь — «не белы снеги», безрассудство, буйство и бунт.