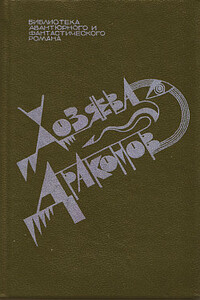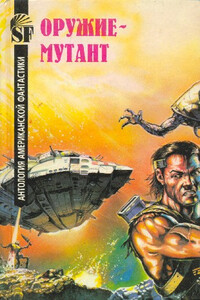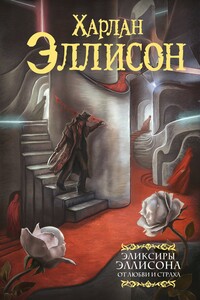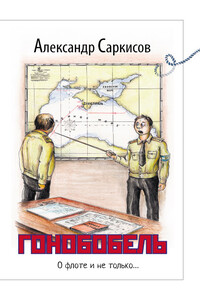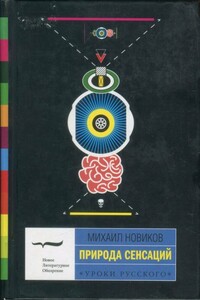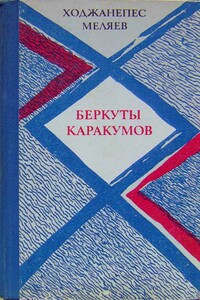Не только потому, что в «Пинксе» лучшие хот-доги, — а это признали мы и весь остальной цивилизованный мир (в том числе «Нейтанс» на Кони-Айленде — в смысле, изначальная точка этой сети закусочных, а не микки-маусные суррогаты, что открываются то и дело по дороге с Бродвея в долину Сан-Фернандо и чьи хот-доги в эпоху меньшей просвещённости были для меня непревзойдёнными), — но и потому, что в «Пинксе» работает Майкл, один из лучших знатоков Достоевского, — а это признали мы и весь остальной цивилизованный мир (в том числе нью-йоркский преподаватель, ушедший в сценаристы, который ещё в 1974 году снял типа как бы «достоевский» фильм о преподавателе, ушедшем в игроки).
Таковы мои две причины поехать к дому номер 711-Н на углу Ла Брея-авеню и Мелроуз, то есть к «Пинкс» — к закусочной той сети, что основал в 1939 году Пол Пинк со своей тележкой, — как раз туда, где божественный хот-дог обходился когда-то в честные десять центов, отчего нынешний доллар с четвертью бьёт мощным ударом под дых, хоть качество не упало ни на йоту, ни на самую мельчайшую... Качество и Майкл Бернштейн, который знает великолепного Фёдора вдоль и поперёк, — таковы мои две причины для того, чтобы выйти в ночь глухую.
Ведь я лежал дома в постели, на самом гребне гор Санта-Моники, среди живописных окрестностей шоссе Малхолланд, с видом на мерцающие огоньки спальных районов долины Сан-Фернандо, каждый из которых, как меня уверили, представляет собой не сумевшее добраться до Бродвея разбитое сердце, — лежал без сна, крутясь и ворочаясь, ворочаясь и крутясь, измученный и несчастный, утомлённый манёврами на подкрахмаленных простынях, причём нежданные видения ввергли мой воспалённый разум не в возню с рождественскими сластями, а в наблюдение за вереницей пляшущих хот-догов, танцующих фанданго сосисок и вальсирующих сарделек. Господи, одиннадцать тридцать, а все мысли — только о том, как бы запустить зубы в хот-дог «Пинкса» и поболтать о карамазовской враждебности с эрудитом-израильтянином, который стоит в ночную смену за тепловой витриной и выдаёт хот-доги с соусом чили. Надо же! Но с фактами не поспоришь.
Так что въезжаю я в полночь на парковку возле «Пинкса», прижимаюсь к магазинчику, что торгует забавной итальянской обувью для дискотек, каблуки которой отлетают, едва начинаешь вертеться активнее, возомнив себя реинкарнацией Валентино или даже последним траволтаноидом, способным привлечь женское внимание, — и подсаживаюсь к прилавку, где Майкл, увидевший меня ещё до того, как я вылез из машины, снарядил хот-дог и готов его вручить, едва я устроюсь у чистого, но покоцанного прилавка из нержавейки.
Простой хот-дог с чуточкой горчицы для пикантности. И без чили — тьфу на чили, я пурист.
Стоит четвёрке нападающих ворваться в поистине кошерное лакомство, Майкл приступает:
— Он не виноват в своём отношении к женщинам. Достоевский — человек во власти страстей. Две из них — несчастная любовь к Полине Сусловой и одержимость азартными играми —ь наложились одна на другую.
Я не одолел и половины первого хот-дога, а Майкл уже сооружает второй — спешу ответить:
— Знаешь, кто ты? Да ты вместе со всеми готов осудить гения только за то, что он лгал, обманывал, был игроманом, который брал деньги в долг у друзей и не отдавал, и за то, что он покинул жену с детьми, и за то, что этот эпилептик-экзистенциалист написал не меньше полудюжины величайших произведений всей мировой литературы. Если он и был груб с женщинами, то это лишь ещё одно проявление его душевных мук, — кстати, давай следующий хот-дог с чуточкой горчицы для пикантности.
Теперь, когда рамки ночной дискуссии очерчены, мы можем отдаться спору о тончайших и самых смутных нюансах, пока у меня не началась изжога, а Майкла не слишком часто отвлекают забредающие к нему подкрепиться путаны и торчки.
— Ха! — нацелил Майкл щипцы на мою голову: — Ха и ещё раз ха! Ты в ловушке общепринятых клише. Ты мифологизируешь русскую душу, тысячелетнюю тоску о прошлом. Но твои суждения опровергает уже тот факт, что в романах Достоевского абсолютно все мужчины обращаются с женщинами чудовищно. Сам текст доказывает, что ты не прав! Назови хоть одно исключение. Не второстепенного персонажа, а главного. Центрального героя, образ, знаковую фигуру... Одно имя!
Я облизал пальцы, кивком согласился на третью за ночь булочку и произнёс с нахальным самодовольством того, кто заманил достойного соперника по пояс в трясину:
— Князь Мышкин.
Майкл растерялся. И не сумел скрыть растерянность: горчицы на сосиску плюхнул с избытком. Он растерянно снял излишки бумажной салфеткой и растерянно вручил хот-дог мне.
— Ну-у... да... конечно, Мышкин... — сконфуженно проговорил Майкл, пытаясь нащупать точку опоры. — Да, конечно, он-то с женщинами учтив... но он же идиот!
К дальнему концу стойки подошли почти двухметровый сутенёр и пять тружениц панели, они начали кричать о плюгавом жиде, о белом ублюдке-торговце, которому мешает расторопно выполнять обязанности его сионистская ненависть к народам третьего мира.
— И... Достоевский отождествлял себя с персонажами, которые жестоки с женщинами... — Майкл направился к другому концу стойки, где нержавейка загрохотала под ударами чёрных кулаков.