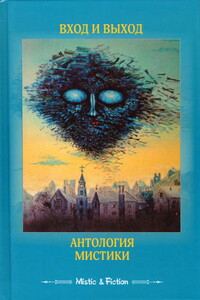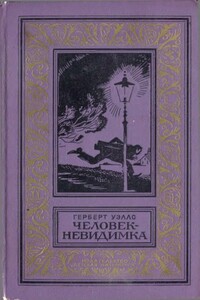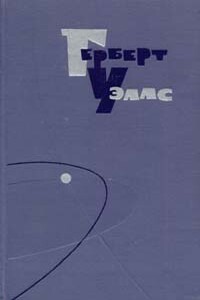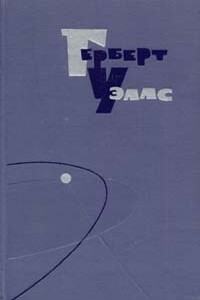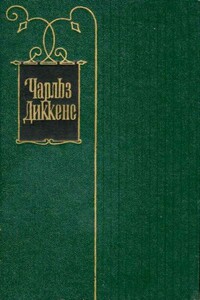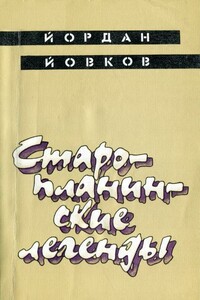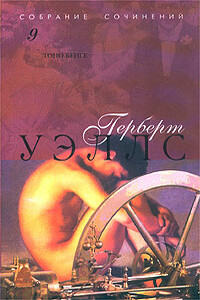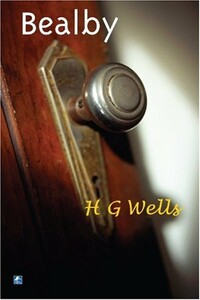Пока Киппс не стал совсем взрослым, он не знал, почему у него нет отца с матерью, как у всех мальчиков, а только дядя с тетей. Он едва помнил какое-то иное место, темную комнату, за окном белые дома и женщину, которая разговаривала с кем-то, кого он позабыл, и эта женщина была его мать. Он смутно представлял ее лицо, зато в памяти очень ясно сохранилось белое платье в цветочках и бантиках, подпоясанное жестким кушаком из полосатой ленты. На эти воспоминания неизменно наплывали иные, еще более смутные: кто-то плачет, плачет, и сам он тоже — неведомо почему — начинает плакать. И тут же какой-то мужчина, высоченный и громогласный; и каждый раз после этих слез или до них они, все трое, куда-то едут в поезде, и он подолгу смотрит в окно.
Он знал, хотя едва ли ему об этом когда-нибудь говорили, что задумчивое лицо на выцветшем дагерротипе в плюшевой с золотом рамке над камином в так называемой гостиной — лицо его матери. Но его туманные воспоминания не становились от этого яснее. С фотографии на него глядела молоденькая девушка — она облокотилась на перила и смотрела испуганно и застенчиво, как всегда бывает, когда позируешь. У нее были вьющиеся волосы и совсем юное миловидное лицо — матери такими не бывают. Широкополая шляпа с цветами висела на руке; послушно и напряженно она смотрела на фотографа, видимо, объяснявшего, как ей лучше встать. Хорошенькая и хрупкая, она была совсем иная, чем та, что являлась ему в смутных воспоминаниях, хотя разницу он не мог бы определить. Может быть, все дело в том, что та была старше, или не такая испуганная, или просто по-другому одета…
Ясно только одно: однажды она препоручила его тете и дяде в Нью-Ромней вместе с подробными наставлениями и некоторой суммой денег. Видимо, она не лишена была сословного чувства, сыгравшего впоследствии столь важную роль в жизни Киппса. Она позаботилась, чтобы его отдали не в обыкновенную начальную школу для простонародья, а в частный пансион в Гастингсе — своего рода академию среднего сословия, с особыми головными уборами и некоторыми иными атрибутами привилегированного учебного заведения, к тому же весьма недорогого. Казалось, она жаждала сделать для Киппса все, что в ее силах, даже ценой кое-каких жертв, словно он был из какого-то иного, лучшего теста. Первые год-два после его поступления в пансион она изредка присылала ему денег на карманные расходы. Но лица ее в ту пору он так и не мог вспомнить.
Попал он к дяде и тете, когда они были уже очень немолоды. Они поженились, когда день их жизни клонился к закату или по крайней мере когда полдень был уже далеко позади. Поначалу они лишь неясно проступали на заднем плане его мира, простого мира вещей видимых и осязаемых: стульев и столов, служивших ему и конем и коляской, лестничных перил, кухонных табуретов, шкафчиков, поленьев для камина; были здесь и чайник, и кипы старых газет, и кот, и Главная улица, и задний двор, и поле, до которого в таких маленьких городках рукой подать. Каждый камень на заднем дворе, мшистую стену с плетями вьюнка в углу и мусорный ящик он знал куда лучше, чем иной муж знает лицо своей жены. Укромный уголок под гладильной доской, где в дни, когда судьба была милостива, он с помощью шали сооружал конурку, которая долго оставалась для него центром вселенной; протертые чуть не до дыр местечки на ковре, сучки в стенке кухонного шкафа, лоскутный коврик перед камином — рукоделие дяди — все это наложило глубокий отпечаток на душу мальчика. Лавку он знал хуже: сюда ему ходить запрещалось; однако и с ней он ухитрился познакомиться довольно хорошо.
Дядя и тетя были, так сказать, главными богами этого мирка и, как боги в старину, время от времени наводили в нем порядок рукой деспотичной и карающей несоразмерно с проступками. Увы, за каждой трапезой приходилось подниматься на их олимпийские высоты. Надо было прочесть молитву, ложку и вилку держать, «как принято», то есть наиболее неудобным образом, и даже самое вкусное есть «не слишком поспешно». Стоило только чуть приналечь на еду — и сразу же неприятностей не оберешься; стоило как-нибудь не так взять нож, вилку или ложку — и он тут же получал по рукам от тетки, хотя сам дядя всегда подбирал подливку ножом. А подчас и дядя вдруг выходил из оцепенения и, поднявшись со стула, вынимал трубку изо рта и кричал на погруженного в какое-нибудь невинное занятие мальчишку:
— Пропади ты пропадом, негодник! Ты что это делаешь?
Бывало, только заведет Киппс интересный разговор с мальчишками, которые бог весть почему считались «низкого звания» и «неподходящей компанией», как в дверях или в окне появляется тетя и велит ему идти домой. Всякие звуки, даже самые приятные: тихонько побарабанишь по чайному подносу, протрубишь в кулак, или свистнешь в ключ, или зазвонишь, как в колокол, в пустое ведро, — вызывали гнев богов. По оконному стеклу и то пальцем не води, а кажется, что может быть тише! Случалось, правда, те же боги пробуждали в нем и теплые чувства: они приносили ему из лавки поломанные игрушки, ибо среди многого другого в лавке торговали игрушками. Вообще-то лавчонка тщилась быть магазином фарфоровых изделий, о чем сообщала вывеска, но на полках ее приютились еще и книги, которые выдавались для чтения и продавались по дешевке, и открытки с видами местных достопримечательностей; тут были и канцелярские товары, и стыдливо выглядывала кое-какая галантерея, а в окнах и по углам виднелись коврики, терракотовые блюда, складные стулья для художников, и две-три рамы для картин, и каминные экраны, и рыболовные снасти, и духовые ружья, и купальные костюмы, и палатки — чего там только не было! И, конечно, мальчишке — от горшка два вершка — нестерпимо хотелось все это потрогать. Однажды тетя дала ему подержать трубу, взяв с него слово, что он не станет в нее трубить, а потом все равно отобрала. А по воскресеньям тетя заставляла его твердить катехизис и какую-нибудь молитву.