Окуджава Б.Ш.
Утро красит нежным светом...
Посвящаю моему дяде Николаю и памяти моей тети Сильвии
Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история - какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:
- Вы что, ничего не слышали?
- Слышали, - сказал дядя Николай, - столько чего слышали... А что вы имеете в виду?
- Война, - сказала она.
- А-а-а, - засмеялся дядя Николай. - Таити напало на Гаити?
- Перестань, - сказала тетя Сильвия. - Что случилось, дорогая?
- Война, война... - прошелестела соседка. - Включите же радио!
По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно - все было прежним.
- Вот что, - сказала тетя Сильвия дяде Николаю и мне, - бегите в магазин и купите побольше масла... Я знаю, что такое война!..
Мы отправились в магазин. Народу было много, но [116] продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла.
- Может быть, еще? - спросил я.
- Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно.
Мы принесли то масло домой. Кто знал, что война так затянется?
По улицам потянулись новобранцы. Среди них были и молодые женщины. Все вдруг переменилось. О море думать не хотелось.
Пришел мой друг, Юрка Папинянц.
- Ну, - сказал он, - в военкомат не идешь?
- Конечно, - сказал я, - пошли.
По дороге я сказал:
- Хорошо бы в один танковый экипаж попасть...
- Хорошо бы, - сказал Юрка.
Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине и смолкло.
В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина, трудно было протолкнуться.
- Чего пришли? - спросил усталый маленький капитан по фамилии Комаров.
Да вот пришли, хотим против фашистов воевать... - сказал Юрка. - Хорошо бы в один экипаж.
- Вызовем, вызовем, - сказал капитан. - Идите.
Вот бюрократ чертов! - хотел сказать я, но сказал иначе:
- Зачем же вызывать, когда мы сами - вот они? Оформляйте, чего уж тут...
- А ну идите отсюда! - вдруг заорал он.
И мы ушли.
- Наверное, мы неправильно вошли, - сказал я, - что-нибудь не так сказали... Все-таки на фронт просимся, а не на базар...
На следующий день мы отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый... Но на восьмой нас не выгнали. [117]
- Э-э-э-э, - сказал капитан, - черт вас дери совсем! Надоели, будьте вы неладны...
Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники.
- Куда ты торопишься? - сказал он мне. - Ну куда? Посмотри на себя: ты ведь совсем цыпленок.
- Ничего, - сказал я браво, - легче маскироваться.
- Э-э-э-э, - сказал он, - надоели! - И вручил нам по пачке розовых повесток: - Чтобы к вечеру разнесли. Все!
- А на фронт? - спросили мы.
- Я сказал - все! - крикнул он, багровея, и мы отправились.
Мы ходили по улочкам Сололаки, и по Грибоедовской улице, и по Судебной, и по улице Барнова и спускались за Александровский садик и в переулочки за оперным театром.
В одном из дворов среди низко подвешенных сохнущих простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.
- Кого хотите? - спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.
- Мнацаканов Альберт, - сказал я и протянул листок.
Это мой муж, - сказала женщина. - А что хотите?
- Вы ему передайте и распишитесь...
- Он на заводе... - крикнула она, оглядываясь на соседей.
- Слушай, Офелия, - сказал старик, - бери...
Одной повесткой стало меньше.
Вот так мы ходили по дворам. Месяц, два. Каждый раз мы спрашивали капитана Кочарова:
- Когда же нас-то?
- Вызовем, вызовем, - говорил он резко, - Идите. Все. Надоели...
На улицах появились первые раненые из госпиталей. [118]
Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы им завидовали. Патрули их пока не трогали.
Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение, что многие остались там. А мы разносили повестки, будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и ненависть к врагу, и героизм, который распирал нас, и все наши удивительные достоинства (мои и Юркины) - все это засыхало на корню.
В один из этих дней появился в нашем доме дядя Борис, младший брат тети Сильвии. От него долго не было известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузовика. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным.


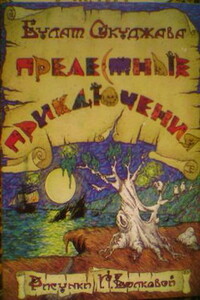

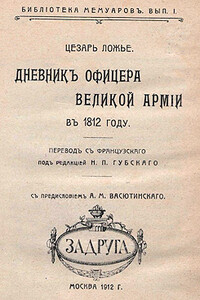

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)



