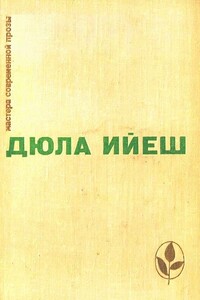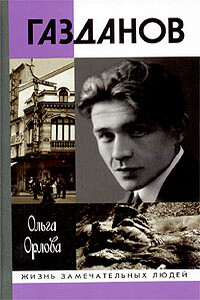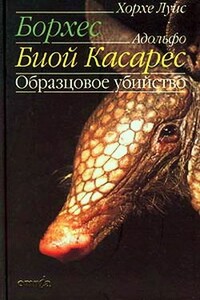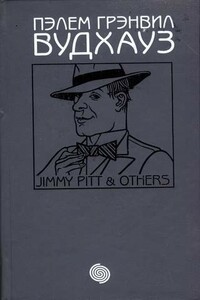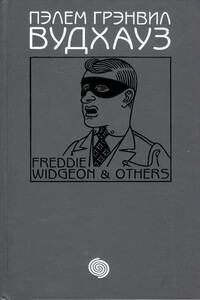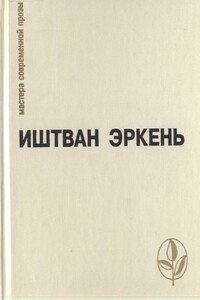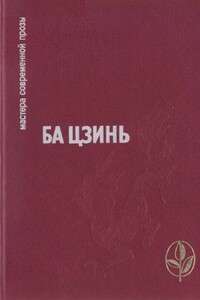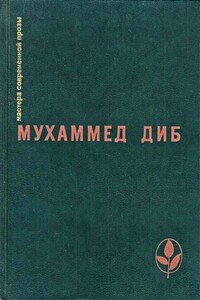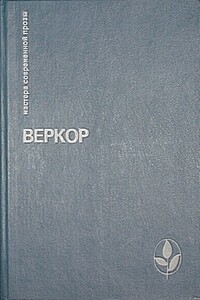Лишь однажды я видел Дюлу Ийеша. В старой Буде, в гостеприимном доме его друзей, мы сидели зимним сырым вечером за накрытым столом и говорили как и о чем придется. К тому времени я знал его по преимуществу как поэта — в Москве уже вышел его стихотворный сборник «Рукопожатие», но прозы не читал: «Люди пусты» и «Обед в замке» не были еще переведены по-русски, а «Ладья Харона» только писалась. Признаюсь, желание повидаться и поговорить с Ийешем подогревалось тем обстоятельством, что мои венгерские знакомцы высказывались о нем на редкость единодушно и с каким-то веселым благоговением как о живом классике, своей национальной гордости, и в то же время отличной души человеке. Когда о нем заходила речь («увидите, что за человек Дюла»), лица освещались улыбками, в которых были смешаны удовольствие и лукавство.
Понятно, с каким почтительным любопытством я смотрел на его широкую в плечах, чуть сутулую фигуру в просторном шерстяном свитере, всматривался в мягкое и простое, с густыми бровями и красноватым носом лицо крестьянина. Впечатление простонародности в его облике разрушали, впрочем, пытливые, изучающие глаза и ироническая складка тонких губ, вызывавшая в памяти эпикурейцев и скептиков вольтеровского века. Человек сангвинического склада, он весело держал в руках нить застольного разговора, атакуя меня вопросами и временами взрываясь темпераментной репликой.
Наивен способ сделать писателя ближе, рассказав о встрече с ним, поделившись впечатлениями о его странностях, привычках, острых словечках, о том, курит ли он трубку или пьет палинку. Какое дело до всего этого читателю его книг? Но я беру на вооружение избитый прием, предваряющий личным впечатлениям более ответственный литературный разговор о книге, оттого, что, читая и перечитывая прозу Ийеша, не мог отделаться от ощущения, что вижу и слышу его самого — его голос, движение глаз, способ разговора, улыбку.
Кажется, Лев Толстой замечал, что писатели, которых он знал, всегда делились для него на тех, что оказывались при непосредственном знакомстве «выше своей книги» пли ниже ее, Ийеш своей книге адекватен.
Говорить с Ийешем не просто. Он не желает вам понравиться, не стремится к сглаживанию углов, душевному комфорту в беседе. С ним не почувствуешь себя в обволакивающей, благодушной атмосфере. Ийеш задирается. Ийеш прощупывает собеседника. Ийеш вызывает на спор. И для того, случается, нарочно сгущает краски, приписывает себе крайние мнения и отстаивает их с редким задором — поди опровергни. Он уничтожает апатию салонной и светской беседы и чувствует себя удовлетворенным, когда накалит собеседника, ускользавшего в привычных формах стертого общения, до градуса искренности, ответной дерзости и серьезности. И тут сам готов отступиться от только что высказанного крайнего мнения и дружелюбно, открыто расхохотаться. Им достигнут тот слой в человеке, к которому он всегда и хочет пробиться.
Заговорили о его стихах. «Черное и белое» должен был называться его новый сборник. Я поинтересовался, нельзя ли перевести что-либо из этой книги для журнала, в котором я тогда работал. «Конечно, — мгновенно отвечал Ийеш, — возьмите белое и оставьте мне черное». И тут же перешел к другому. Он недавно вернулся из поездки в Париж, где был гостем Андре Мальро. Тогда только что прокатилась волна молодежных беспорядков в Латинском квартале. Ийеш сознавал, конечно, слабые стороны молодежного бунта, но рассказывал об этом так, что можно было понять: студенты чем-то по-человечески симпатичны ему. «А как же акты анархии и вандализма, перевернутые и подожженные автомашины, опустевшие аудитории?» — спрашивали Ийеша его собеседники. «А вам больше по душе сонная академическая заводь?» — парировал он. И, оттолкнувшись от какого-то французского словечка, легко перескочил на своего конька — доморощенную, небанальную лингвистику. С каким жаром стал он доказывать преимущество венгерского языка для поэзии перед всеми другими, восхищаясь разнообразием звуковых оттенков в нем! Я обмолвился, что лингвист Щерба различал то ли 15, то ли 18 разновидностей звука «а». «Только-то?» — немедленно отозвался Ийеш. И начал с энтузиазмом демонстрировать бесконечное богатство венгерского языка во всех производных от глагола «идти»: «пошел», «зашел», «ушел», «пришел», «подошел» и т. п., а присутствующие, втянутые им в спор, опровергали его, находя всякий раз русские эквиваленты. «Нет, нет, не пытайтесь меня переубедить, — заявлял Ийеш. — Все языки — немецкий, французский, английский — хороши, чтобы объясняться в гостях, на улице, в ресторане, со швейцаром, но венгерский язык создан для поэзии». И, накалив спор докрасна, он, улыбнувшись, неожиданно согласился, хитро поглядывая на русских гостей, что, по-видимому, с венгерским языком в этом отношении может соперничать только русский…
Таким заядлым спорщиком, мастером взрывать разговор, запомнился мне Ийеш по нашей встрече. Но если бы я никогда не видел его, то, наверное, вынес бы такое же впечатление из чтения его книг.
Да, говорить с Ийешем не просто, но и читать его — это счастливый труд. Он пишет в расчете на неравнодушное чтение, богатое обертонами смысла. На чтение, способное пробудить в читателе не одно вялое согласие, но вспышку чувства, горячее одобрение или запальчивый спор.