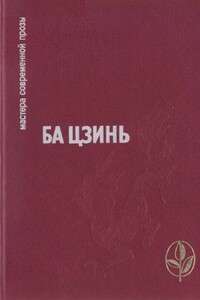Избранное - [3]
Автор «Людей пусты» (1934) спускается с зажженной свечой в подвалы истории, листает старинные грамоты, юридические «уложения». Все годится ему — и строгая летописная строка, и статистическая выкладка, и запись в батрацкой книжке. Он не дает никакой подачки слабости читателя, досадующего, что его отрывают от живого мемуарного рассказа ради скучной материи «источников».
Писателя не унижает, что его книгу критики отнесут к жанру социальной этнографии, или социографии, как еще называют в Венгрии этот популярный там жанр. Сомнение во всякой условной, литературно выглаженной правде, желание знать свою страну, не понаслышке и без прикрас, беря материал из первых рук — вот начало того движения, у истоков которого стоит автор «Людей пусты» и которое позднее получило название «Открытие Венгрии».
Кто же они такие, люди пусты? Для читателя Ийеша это не социологическая абстракция, не венгерское батрачество «вообще». Перед нами цепочка живых, становящихся близкими в его рассказе лиц и картин, таких цветных и ярких, какие можно вынуть лишь из волшебного фонаря детской памяти.
Дед по отцу, гонявший огромные стада овец и считавший себя местной аристократией, потому что овчар в отличие от свинопаса и пастуха коров имел право сидеть на лугу… И другой дед, по матери, покладистый, скупой на слова столяр, улыбчивый и никогда не ругавшийся, что казалось дивом среди отчаянно сквернословившей пусты… Бабушка — крепкая, бережливая, набожная и совестливая. И другая бабушка — неисправимая атеистка и читательница газет, о которой автор говорит, не обинуясь, что она «была гениальна», потому, между прочим, что верила не в форинты, но «в силу духа».
Очерк двух семей, долго враждовавших и ни в чем не похожих друг на друга, вообще принадлежит, пожалуй, к лучшим страницам книги. При соприкосновении этих задунайских Монтекки и Капулетти «в местах контактов… сыпались, шипя и сверкая, искры». Да и как было им не враждовать, если «небандский дед» не воспринимал идеи, а «только опыт» и мысли свои «выражал с такой леденящей объективностью», что они превращались в почти осязаемые предметы, как, скажем, тарелка или дудка, в них нельзя было сомневаться, можно было только рассматривать. Тогда как семью матери «занимали и такие вещи», в которых она не была «прямо заинтересована и без которых спокойно могла бы прожить»; в ее семье скорбели, например, по поводу казней в городе и ненавидели Габсбургов.
Как две наследные крови, смешиваются две традиции, два типа отношения к жизни: практически-крестьянское и инстинктивно-интеллигентное, в противостоянии которых и созревает душа мальчика.
Объяснять, что такое пуста, Ийеш начинает с себя: от окошка в доме с земляным полом, в котором впервые увидел свет, от своих бабушек и дедушек, отца с матерью. Но этот малый мир растет и ширится на глазах. Ийеш благодарно замечает, что судьба окружила его колыбель «всем тем, что предстояло выучить на всю жизнь по истории Венгрии». Достаточно сказать, что потрясением для подростка было открытие: в одном из ближних сел учился в гимназические годы Петефи (о нем Ийеш напишет впоследствии одну из лучших своих книг).
Историей дышит и повседневность. Борису Пастернаку принадлежит одно странное, но неоспоримое наблюдение: как однообразно (и потому малоинтересно для литературы) всякое богатство, комфорт и как непостижимо разнообразны проявления бедности и труда. Наверное, оттого с таким неравнодушным чувством читаешь у Ийеша и о раннем утре батрака, возвещаемом звоном надтреснутого лемеха, и о процессии женщин с корзинами на головах, несущих мужьям скудный обед в полдень, и о тех вечерних часе-полутора, «когда пуста жила мало-мальски человеческой жизнью»: свет из кухни падал на крыльцо, ужинали неторопливо, негромко переговаривались, а из-за кустов акации раздавался молодой смех.
В книге дан как бы полный лексикон труда и быта венгерского батрачества: будни и праздники, свадьбы и драки, стол и постель, любовь и смерть в пусте. Вплоть до особого языка примет, привилегий и обычаев, невнятных для постороннего, но одним движением, жестом объясняющих посвященному все. «Кто возьмет от пришедшего в дом шляпу: хозяин, хозяйка или их дочь — и куда положит: на сундук, на вешалку или на кровать? Уже по одному этому, — замечает Ийеш, — посетитель за минуту узнает столько, сколько на словах ему не узнать и за полгода».
Автор с такой силой душевного интереса рассказывает о тяжелейшем труде людей пусты, об их скудном отдыхе, что, хоть и не скрывает ничего и говорит голую правду, является желание побыть с ними в этой бедной радостями жизни — эффект настоящего искусства, требующего добровольной причастности.
Повествование Ийеша по внешности просто, незатейливо, но задевает глубоко, и этому есть разгадка. «Описать духовный облик одного слоя народного» — вот задача писателя, а вовсе не добросовестная этнография и не семейная хроника, как может показаться поверхностному взгляду. Рассказчик страстно, истово стремится к самосознанию. «Усвоив в надлежащем порядке, на какое имя мне следует откликаться, кто мои родители и кто я сам, а именно: сын батраков, я узнал наконец, что я еще и венгр». В этих словах, как в свернутой пружине, постижение своего места в мире ребенком, подростком, юношей: личное, социальное и национальное самосознание.
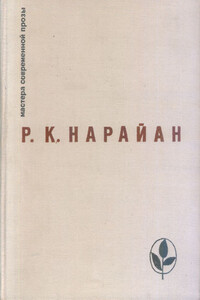
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.
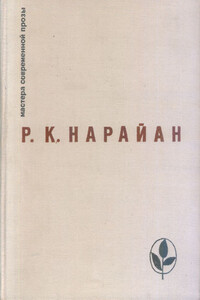
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.
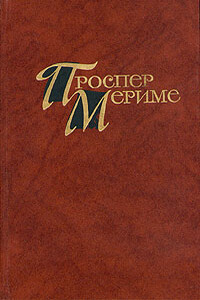
Проспер Мериме (1803—1870) начинал свою литературную деятельность с поэтических и драматических произведений. На основе обширного исторического материала писатель создал роман «Хроника царствования Карла IX», посвященный трагическим эпизодам эпохи религиозных войн XVI века. Но наибольшую популярность завоевали новеллы Мериме. Галерея ярких, самобытных, бессмертных образов создана писателем, и доказательство тому — новелла «Кармен», ставшая основой многочисленных балетных, оперных, театральных постановок и экранизаций.
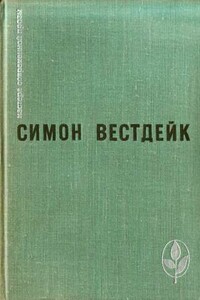
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
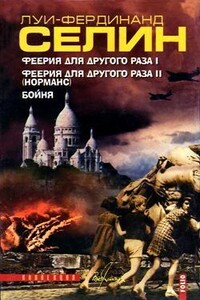
Большой интерес для почитателей Л.-Ф. Селина (1894–1961) – классика французской литературы, одного из самых эксцентричных писателей XX века – представляет первое издание на русском языке романов «Феерия для другого раза…» и «Бойня».Главные действующие лица «Феерии…», как и знаменитой трилогии «Из замка в замок», «Север», «Ригодон», – сам Селин, его жена Лили-Арлетт и кот Вебер. А еще Париж, в апреле 1944 г. подвергшийся бомбардировкам американских и английских ВВС. Обезумевшие соседи, вороватые консьержки, беженцы, одичавшие животные – огромная и скорбная процессия живых и мертвых проходит перед Селином.
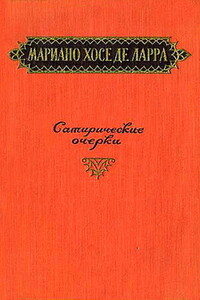
Эпоха, в которую жил и творил Мариано Хосе де Ларра (1809–1837), один из наиболее выдающихся представителей испанской литературы и общественной мысли XIX столетия, была одной из самых трогательных и поучительных глав современной истории. Талант писателя созревал под прямым воздействием бурных событий его времени, а его литературное наследие, запечатлев наиболее яркие и существенные черты этого времени, сохранило свою актуальность и живой интерес вплоть до наших дней.В сборник избранных сатирических очерков и статей Мариано Хосе до Ларры, предлагаемый вниманию читателей, включены переводы наиболее значительных публицистических произведений испанского писателя.
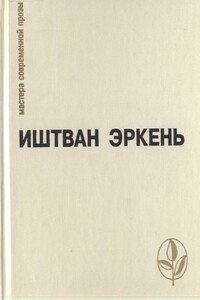
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
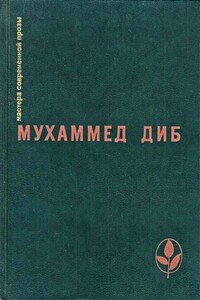
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
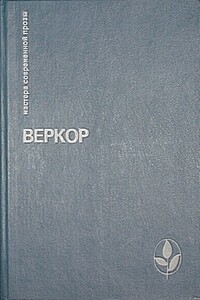
Веркор (настоящее имя Жан Брюллер) — знаменитый французский писатель. Его подпольно изданная повесть «Молчание моря» (1942) стала первым словом литературы французского Сопротивления.Jean Vercors. Le silence de la mer. 1942.Перевод с французского Н. Столяровой и Н. ИпполитовойРедактор О. ТельноваВеркор. Издательство «Радуга». Москва. 1990. (Серия «Мастера современной прозы»).