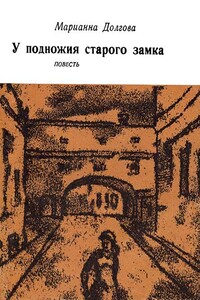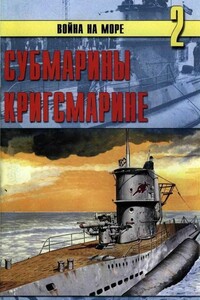Мы гостили в усадьбе Бьёрке[2]. Но домой на лодке в воскресенье вечером отплыли лишь отец моих воспитанников, помещик, и его старая мать. Сестра же помещика йомфру[3] Мари и мои воспитанники-мальчики просили и клянчили до тех пор, пока им не разрешили остаться до понедельника и вернуться домой через горный перевал; это называлось «увидеть местный пейзаж». А я, учитель детей, по многим причинам сделал так, чтобы отправиться вместе с ними.
Утро понедельника настало для нас слишком неожиданно. В сопровождении гостеприимной хозяйки усадьбы, которую все называли матушка Бьёрке, и её сына бродили мы по огороженным пастбищам и поросшим густой листвой рощам, где на верхушках ольховых деревьев горихвостки и зяблики праздновали наступление нового дня быстрыми и звучными взмахами крыльев. Кругом среди ветвей порхали мухоловки, внося свою лепту в общий хор, меж тем как бодрая песнь садового певца — соловья, скромно укрывшегося под сенью листвы, лилась из густых тёмных крон деревьев. Утро было спокойное и ласковое; листья берёз почти не шевелились, и, поднимаясь в гору, а потом, сойдя с тропки на луга, мы ещё видели, как сверкают жемчужины росы на клевере и в складчатых листьях тимьяна, когда солнечный луч освещал зелень. Ласточки низко парили над прекрасными стрекозами; чекан луговой сидел, качаясь, на осоте и щебетал на все поле. С голубого неба, окаймлённого со всех сторон светлыми летними облаками, доносилась песнь жаворонка.
Когда мы перешли на другую сторону широкой дороги, весь ландшафт резко изменился. Дорога вела к вершине горного хребта. Сосны и ели поднимали над нами отбрасывающие прохладную тень вершины. К нам доносились и трели жаворонка; но здешние звуки были совсем другие: пронзительный писк хлопотливых синиц, крик желны, предвещавший дождь, и шумное аханье пустельги под самыми облаками.
Устав от подъёма в гору, мы немного отдохнули на плоских, поросших мхом камнях близ Пасторова болота, выпили на прощание за здоровье провожавших нас хозяйки и её сына. А блестящая поверхность Эйера, которую мы различали меж верхушек сосен, вселяла в нас спокойствие.
Мальчики уже были на болоте и собирали морошку; всякий раз, увидев краснеющую ягоду, они издавали ликующие крики. Йомфру и я шли рядом. Окружённое венцом из сосен и елей на четверть мили[4] к западу тянулось болото. Лишь отдельные заросли стройного камыша да кочки, поросшие светло-зелёным аиром, нарушали однообразие розной поверхности болота. Время от времени перед нами вставал какой-нибудь мыс, а на самом его краю, то тут, то там, виднелся шалашик, сложенный из пожелтевших еловых ветвей, — единственное воспоминание о весеннем токовании тетеревов. По той дороге, которую нам предстояло пройти к северу, оставалась едва тысяча шагов. У берега цвёл вереск, а на болоте нам навстречу колыхались великолепные жёлтые чашечки кувшинок, бородатый манник и изысканный белокрыльник. Болотный покров, украшенный кивающим нам пушком, цветами морошки и нежной осокой, переливался всеми красками и, словно покоясь на бурных морских волнах, покачивался у нас под ногами. Мы тоже сделали небольшой крюк, чтобы собрать морошку. Когда же мы снова подошли к крайней оконечности одного из этих увенчанных соснами мысов, мы увидели, как раскачиваются взад-вперёд большие цилиндрообразные колосья тимофеевки. Пронизывающий ветер свистел нам в лицо, а прямо перед нами высились тёмные громады туч с сероватыми, словно вылинявшими краями. Надвигался ливень; мы уже почувствовали, как упали отдельные капли дождя.
Я утешал свою перепуганную спутницу, говоря, что мы найдём прибежище в сторожевой хижине[5], которая осталась тут со времён войны[6]. Хижина располагалась в двух шагах отсюда, прямо перед склонившей свою вершину сосной у самого болота. Когда мы с Мари и мальчиками добрались до берега, ливмя полил дождь, но нам это уже было не страшно. Мы чувствовали твёрдую почву под ногами, лес защищал нас от дождя, и несколько минут спустя мы были уже на вершине холма, надёжно укрытые в сторожке. Но оказалось, что укрыты мы были не так надёжно, как нам хотелось. Крыша хижины давно рухнула; от неё остался лишь небольшой клочок над одним из углов хижины, так что мы свободно могли видеть, как птицы небесные летают над нашими головами. Но и в этом единственном углу под небольшим кусочком крыши какой-то добрый человек, охотник или дровосек, соорудил скамью из нескольких стволов можжевельника, заложив их между брёвнами. Скамья была так коротка, что там едва хватало места для двоих. Но нам все же пришлось усесться, и мне показалось, что скамья эта — 8 чудесна. Мальчики с опасностью для жизни, для рук и ног вскарабкались на развалины старой дымовой трубы в другом углу. И, стоя там, на фоне сероватого неба, спорили до тех пор, пока из-за стены дождя уже нельзя было разглядеть ближайшие деревья. И, спорили они о том, видны ли отсюда девять или одиннадцать церквей.
Всякий счёл бы, что наша скамейка в углу сделала нас с Мари более доверчивыми и более общительными.
Но этого не случилось; я молча сидел, не отрывая глаз от поверхности Эйера. Окутанная пеленой дождя, она тускло мерцала сквозь дверной проем. Я смотрел на мальчиков, попиравших остатки дымовой трубы, и на собственные свои ноги. А если украдкой и бросал взгляд на прекрасную соседку, то лишь для того, чтобы с удвоенной быстротой отвести от Мари глаза. Положение было одновременно любовным и комедийным. Словом, любовь в духе школьного учителя. Мы сидели, словно две курицы на одном насесте.