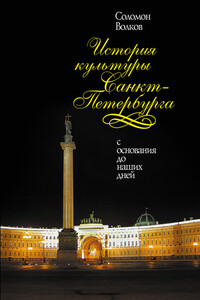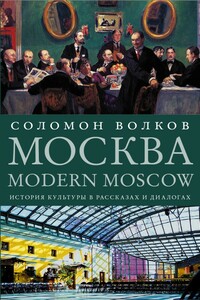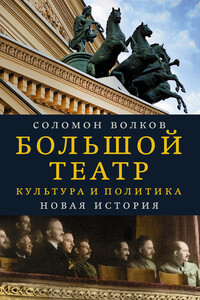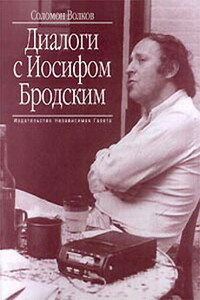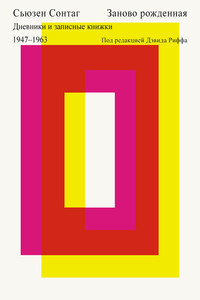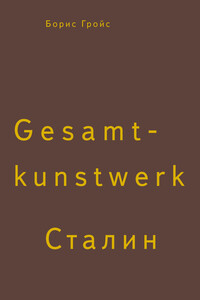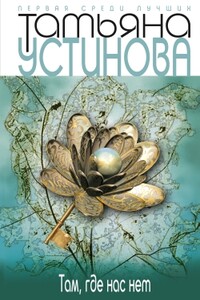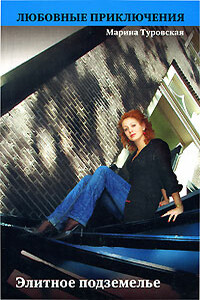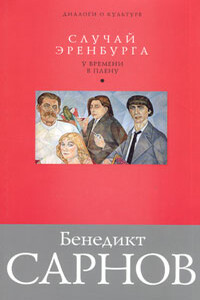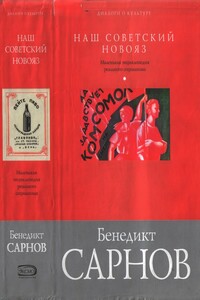Последние 300 лет в судьбе Петербурга-Петрограда-Ленинграда-Петербурга как в специфическом зеркале, устрашающе укрупняясь, отражались все роковые процессы российской истории. И потому серьезное исследование петербургской культуры неизбежно вторгается в область политической истории и приобретает историософские черты.
Соломон Волков неизменно оригинален в подходе к материалу своих книг. Как литератор он стал известен русскому читателю в союзе с двумя громкими именами – Шостаковичем и Бродским.
Записанные им и вывезенные на Запад воспоминания великого композитора, в которых впервые предстала перед миром во всем драматизме «несчастная жизнь» (Шостакович) одного из творцов русской культуры XX века, изуродованная «безумной властью» (Бродский), только недавно стали доступны в России.
Вторая книга – «Диалоги с Иосифом Бродским» – фактологический и духовный кладезь как для современного читателя, так и для будущего исследователя, содержанием своим еще раз доказала метафизическое бессилие «безумной власти», способной сломать бытовую судьбу человека и даже физически его уничтожить, но не способной подавить творческое начало, если оно сопряжено с внутренней свободой.
Героический парадокс внутренней свободы в условиях несвободы внешней – преимущественно русская коллизия, давшая в последние три века удивительные плоды…
Поскольку хронологически основная часть русской культуры существовала в системе деспотического государства, вступая с ним в разнообразные контакты, то неизбежно историограф этой культуры вынужден – хочет он того или нет – анализировать взаимоотношения художника и власти. И если это серьезный исследователь, то проблема вырастает до масштабов – художник и мир.
Собственно, из конфликта именно этого – максимального! – масштаба и родилось уникальное явление, ставшее основным содержанием монументального фолианта, представленного нам Волковым и определяемого как «петербургский миф».
Волков вошел в нашу литературу как мастер диалога, то есть искусства вступать в человеческие отношения с объектом исследования. Отсюда и возникает особенность данной книги – диалогические отношения автора с материалом: петербургской культурой в лице ее создателей.
Этот личный, человеческий тон задается уже первым абзацем вступления: «16 мая 1965 года группа молодых музыкантов, составлявших струнный квартет, со своими инструментами в футлярах и складными пультами ехала в холодной и неуютной пригородной электричке из Ленинграда на северный берег Финского залива. День был воскресный, и они направлялись в гости к поэту Анне Ахматовой, начиная с весны проводившей свои дни в дачном поселке Комарове, бывшем Келомякки, в 40 с лишним километрах от Ленинграда.
Мне был 21 год, и я был руководителем этого ансамбля…»
Волков очень точно выбрал микросюжет – путешествие к петербургскому классику-поэту для того, чтобы исполнить произведение петербургского классика-композитора: сыграть Ахматовой квартет Шостаковича.
Приведенный эпизод был закреплен не только данным воспоминанием Волкова. В одной из рабочих тетрадей Ахматовой (ахматовский фонд в РГАЛИ) сохранилась запись, сделанная его рукой: «Сегодня, 16-го мая, для нашего квартета знаменательный день: мы играли для Анны Андреевны 9-й квартет Шостаковича
Соломон Волков
Виктор Киржаков
Валерий Коновалов
Станислав Фирлей».
А сама Анна Андреевна тогда же записала четверостишие, которое, очевидно, должно было стать началом стихотворения:
То лестью новогоднего сонета,
Из каторжных полученного рук,
То голосом бессмертного квартета,
Когда вступала я в волшебный круг…
Сонет из «каторжных рук» – это скорее всего стихи, поднесенные Ахматовой Иосифом Бродским, на несколько дней приехавшим из ссылки, а «бессмертный квартет», разумеется, опус, исполненный ансамблем Волкова[1].
Этот зачин книги принципиален – сцена, живо и лапидарно очерченная автором, полна символического смысла: «Она (Ахматова. – Я. Г.), казалось, впитывала в себя скорбь, отрешенность и трагическую интенсивность музыки Шостаковича, столь созвучной ее собственной поздней поэзии. Драматичные судьбы Ахматовой и Шостаковича, тесно связанные с Петербургом, не раз пересекались…»
Сцена в Комарове – пространство пересечения четырех судеб, чрезвычайно важных для книги: Ахматовой, Шостаковича, Бродского и – самого Волкова. Вся книга построена на пересечении множества судеб из разных эпох с судьбой автора. Это не столько история великой культуры великого города за 300 лет, сколько сага о творцах этой культуры, о бесконечности связей между людьми и эпохами, между жанрами и произведениями, сага о единстве культуры и жизни во всей их многослойности.
Сага как жанр подразумевает возможность использования самого разнообразного материала – от чисто легендарного до собственно исторического. Этот принцип существен для книги, центральным героем которой является миф.
Разумеется, Волков строго придерживается исторической корректности. На бытовом уровне Пушкин у него не встречается с Гумилевым, Ахматовой или Бродским, а Гоголь – с Андреем Белым или Зощенко. Но он выстраивает пронизанное трансформирующимся петербургским мифом историческое пространство, в котором эти персонажи взаимодействуют между собой более тесно, чем со своими современниками. Их объединяет не только авторский замысел, но – более того – постоянное присутствие общего собеседника.