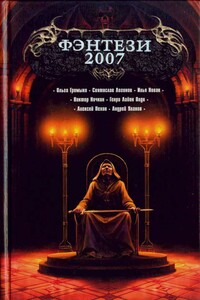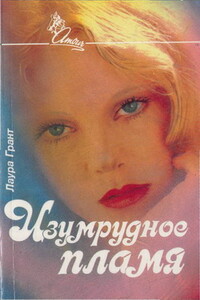Юрий Нестеренко
Исполнитель
Снова ночная смена… Мне нравится работать по ночам. Многие мои коллеги жалуются на ночную работу, посмеиваясь, что она роднит их с нашими клиентами, но я люблю это время суток. Я часто вспоминаю ночи моей молодости, ту интереснейшую эпоху, когда дряхлеющий имперский орел еще простирал свои крылья от океана до океана, но воздух был уже пропитан духом революции. Мы с моими однокурсниками, бывало, просиживали до рассвета у кого-нибудь на квартире, а летом на даче или в имении, споря о политике, истории, философии — да бог весть о чем еще. Я вспоминаю эти горящие глаза, вдохновенные лица… Я издевался над их восторгами, а они называли меня занудой и упрекали за неверие в светлую силу разума. «Через десять лет!…» — говорили они мне. Да, через десять лет они увидели, кто был прав. Собственно, многие увидели и раньше. Но было поздно.
Мой теперешний тесный кабинет со всегда задернутыми шторами и тяжелой настольной лампой — единственным источником света — мало похож на просторные веранды тех давно сожженных имений. И по ночам я веду теперь совсем другие разговоры — вообще говоря, довольно скучные, но работа есть работа.
Я подвинул очередное дело в круг света, отбрасываемого лампой. Папка пока еще тонкая — заполнить ее предстоит мне… разумеется, совместно с клиентом. Ну-с, кто там у нас? Ага, типаж довольно характерный, хотя в последнее время все более редкий. Аполитичный интеллигент, из тех, чей лозунг — «мы служим не режиму, а Отечеству». Ну что, друг любезный, дослужился? Я с интересом отметил, что он окончил тот же университет, что и я. Мы могли встречаться… Я еще раз посмотрел на фотографию в деле. Нет, не помню. Впрочем, у меня вообще отвратительная память на лица. Я нажал кнопку звонка.
Он вошел в кабинет, все еще неуверенно ступая в ботинках без шнурков. Сутулая фигура, длинное бледное лицо… Внешность вполне типичная. Для полноты картины не хватало только очков и бородки клинышком. Но бородки не было, а была трехдневная щетина, разбитая губа и синяк под глазом. Отлично, значит, он уже знаком с нашими методами.
— Садитесь, — сказал я. Он опустился на краешек стула, явственно подавив в себе желание сказать «благодарю».
— Я ваш следователь, — продолжал я голосом тусклым и бесцветным, как обычно.
— В чем меня обвиняют? — в его тоне уже не было гонора, обычного для тех, кого взяли только что, но еще ощущалась готовность к борьбе.
— Неужели вы думаете, что мне доставляет удовольствие повторять банальности? Типа «здесь вопросы задаю я». Ну в чем мы можем обвинять? Разумеется, в контрреволюционной деятельности.
— А к… конкретно?
— Ну вы же умный человек, — я поднял глаза от дела и взглянул на него. — Придумайте сами, что вам больше по душе.
— То есть как?! — прямо-таки взвился он. — Вы с таким цинизмом признаете, что за мной нет никакой вины?
— По-вашему, лицемерие лучше, чем цинизм? — усмехнулся я. — И запомните — невиноватых людей нет. Кажется, что-то подобное есть и в Библии?
— Вы же атеисты.
— Вы знаете, отнюдь не все. Я лично знаю солдат из расстрельной команды, верующих самым простонародным образом. Но дело не в этом, а в том, что полезные вещи надо брать отовсюду, в том числе и у врагов. А у церкви есть чего взять. Например, в нашем деле весьма полезен опыт инквизиции…
— Вы пытаетесь меня запугать?
— Я просто объясняю вам ситуацию. Постарайтесь не смотреть на меня, как на врага — мы партнеры, делающие общее дело. Я предлагаю вам взаимовыгодную сделку. Подпишите все, что надо, сделайте это прямо сейчас. Мне это сэкономит время, а вас избавит от массы неприятных ощущений.
— Я не буду ничего подписывать.
— Будете. Можете поверить моему богатому опыту. Весь вопрос в том — когда и в каком состоянии. Знаете, у нас есть поговорка «нет несгибаемых подследственных, есть плохие следователи». Я хороший следователь, во всяком случае, так считает мое начальство. И мне вовсе не доставит удовольствия выбивать у вас признание — ни морального, ни, как вы могли подумать, сексуального. Я не кровожадный маньяк, какими вы нас считаете. Но если вы меня вынудите — я позабочусь о том, чтобы вам было очень больно. Я знаю, как сделать так, чтобы боль все время нарастала, а человек не мог ни свыкнуться с ней, ни потерять сознание. Боль может длиться часами… сутками… неужели вы этого хотите? И ведь главное — результат-то будет тот же самый.
— А если я подпишу, вы меня расстреляете.
— Скорее всего. Возможны, конечно, и 15 — 20 лет лагерей, но я не думаю, что это лучше. Это, знаете ли, для быдла… а человеку умному и образованному там… — я покачал головой.
— Я никак не пойму… — медленно сказал он, — вы говорите серьезно или издеваетесь?
— Знаете, с вами я как раз говорю серьезно, — честно ответил я. — Я ужасно устал от всей этой демагогии про партию и врагов… Вы бы видели, что за публика проходит через мои руки… Обыватели, неспособные связать двух слов от страха и глупости. Подпольные дельцы и спекулянты, только и умеющие, что сулить деньги за свое освобождение. Кадровые военные и бывшие аристократы, поначалу готовые лопнуть от презрения к нам, а потом ползающие на коленях и умоляющие дать им подписать что угодно. Но хуже всего, разумеется, революционеры. Вот уж, воистину, маргинальная публика. Мне кажется, они вообще не способны ни думать, ни говорить по-человечески. Вообразите себе: революция отправляет их на расстрел, а они вопят «Да здравствует революция!» Мне порой кажется, что это не люди, а какая-то дегенеративная мутация… Нет, побеседовать с цивилизованным человеком вроде вас — это большая удача.