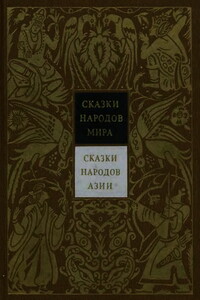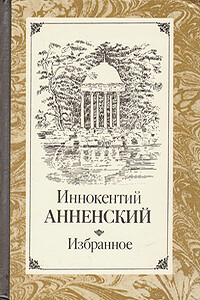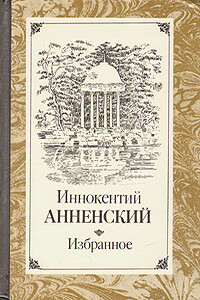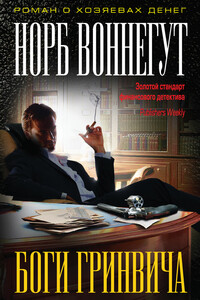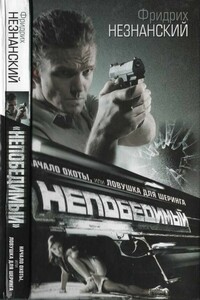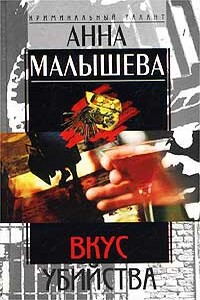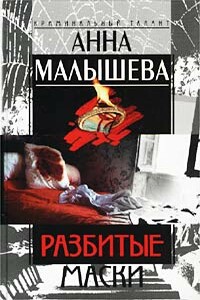В конце концов я перестала отвечать на их вопросы – и свидание разрешили. Фридрих Миллер позвонил в гостиницу и радостно, будто все самое худшее осталось позади, объявил: «Свидание разрешили! Вы счастливы?» Я ничего ему не ответила, молча повесила трубку. Тогда он перезвонил снова, он никак не мог взять в толк, почему я не радуюсь, ведь этого свидания мы добивались вместе. А когда я опять ничего не ответила, ужасно обиделся. Обиделся, но все-таки заехал за мной в гостиницу и опекал и заботился всю дорогу, отечески ласково трепал по щеке, мол, все образуется, главного-то мы добились, ввел под руку в это страшное здание и, бережно поддерживая, усадил на стул. Тут я окончательно поняла, что не хочу никакого свидания.
Не хочу! Не могу! Не выдержу! Мне не нужно это свидание, мне нужно бежать отсюда без оглядки. Пока не поздно.
Поздно. Бежать уже поздно. Не удастся сбежать. Фридрих крепко держит меня за руку и улыбается, улыбается и снова треплет мою щеку. Поздно бежать.
Мои духи меня сводят с ума. Одеколон Фридриха меня сводит с ума. Этот тюремно-канцелярский запах сводит меня с ума. Зачем я так упорно добивалась свидания? Что я скажу Алеше? Что я ему верю – и это самое главное? Что понимаю: весь этот ужас – просто ошибка, которая скоро будет исправлена? Что я люблю его, очень люблю? Когда я его увижу, закованного в наручники, небритого, в порванной рубахе, я не смогу ничего сказать. Не смогу сказать и, возможно, любить перестану. Да и какой смысл говорить? Они-то ему не верят. Они и мне не поверили, я так и не смогла их убедить в том, что Алексей совсем не тот человек, за которого его принимают. Они не верят, и, значит, ошибка не будет исправлена.
Так зачем же я здесь сижу? Мне надо бежать, бежать… Поздно. Они уже вывели его из камеры, поставили лицом к стене, обыскали и повлекли по коридору. Длинный, длинный коридор. Человек, за которого его принимают, – опасный преступник: киллер, убивший двадцать семь человек, гражданин Германии Артур Кельвейн, долго и безуспешно разыскиваемый Интерполом.
Его арестовали в магазине мужской одежды, где мы покупали ему сандалии. Его арестовали, а я так и не смогла ничего доказать, хоть и очень старалась. Это я потом замолчала, а сначала все говорила и говорила, и остановить меня было невозможно. Мой рассказ – такой правдивый, такой искренний – должен был убедить в том, что Алексей невиновен. Я очень хотела его спасти. Но они не поверили, не поверили, что Алексей не Кельвейн, не киллер. И тогда я замолчала, не только рассказывать перестала – отказалась отвечать на их вопросы. А они вдруг дали свидание. Наверное, чтобы меня подкупить.
Что же так долго его не приводят? Длинные, длинные коридоры…
Мы познакомились месяц назад. Это было в тот день, когда я сдала последний экзамен. Оставалась еще защита диплома. Я так и не узнала, что Алексей делал у нас в университете, но могу поклясться: пришел он туда не затем, чтобы кого-то убить.
Он пришел, чтобы мы стали самыми счастливыми людьми на свете.
Так и вышло, так и оказалось. Наше счастье было абсолютно, безгранично, наше счастье было материально и могло бы передаваться по наследству, как некая вдруг приобретенная, но укоренившаяся в организме болезнь. Оно, наше неистовое счастье, даже боль причиняло, сладкую, но с трудом переносимую. А потом мы прилетели в Одессу.
Что мы знали об Одессе? Ничего, ровным счетом ничего, но представляли, что наше неистовое, безграничное счастье станет в этом волшебном городе еще неистовее и безграничнее. Мы думали: выйдем из самолета, и нас тут же окутает дивное благоухание юга, моря и каких-то экзотических цветов.
Одесса пахла разогретым железом, машинным маслом и застаревшей пылью – никакого дивного благоухания. Но наше счастье не насторожилось.
Солнце жгло нестерпимо, море не выглядывало из-за поворотов этих грязных, неухоженных улиц. Но мы не восприняли это как предзнаменование – вопреки всему, искусственно, доводили свое счастье до экстаза. А до моря было еще так далеко…
На море мы так и не попали.
Мы вошли в магазин. Присмотрели Алеше гавайку и шорты. Пока Алексей расплачивался, я отошла в отдел обуви, долго, придирчиво выбирала ему сандалии, упиваясь ролью жены, взрослой хозяйственной женщины – наивная маленькая дурочка! Пожалела, что нет с собой шила – мама всегда брала с собой шило, когда покупала обувь папе, ковыряла подошву, проверяя на крепость. И тут вдруг что-то произошло. Шум? Порыв ветра? Нет, сейчас не восстановить. Когда я им рассказывала так много, так подробно, так долго нашу историю – не могла объяснить, что именно случилось. Я почувствовала только, что это конец – конец счастью и, может быть, жизни. Стояла с сандалией в руке, завороженная ужасом – голова вполоборота, – и смотрела, как опрокидывают на пол послушно-безвольное тело моего любимого. Они были не в форме, почему-то не в форме. На секунду мелькнула надежда, что это просто бандиты, грабители и, значит, можно спастись. Спасти и спастись. И я опять пожалела, что нет у меня с собой шила. И бросилась к ним. Что-то я кричала, кричала. Меня оттолкнули, меня оттащили. Женщина – продавщица? хозяйка магазина? переодетый полицейский? – крепко ухватила за руку, повлекла в какую-то подсобку. Я услышала звук сирены…