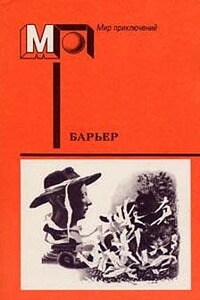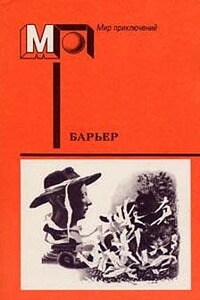Повесть

«В добрые старые времена, когда Британией правил король Артур и прекрасная супруга его, королева Гиневра, при королевском дворце собрались наиславнейшие рыцари земли бриттов. И всем им, непобедимым воителям, нашлось место за Круглым столом Артуровым, ибо всякий из них был равен другому и ничьи доблести не были прочим в ущемление. День за днем слушали они рассказы короля своего и Мерлина, королевского волшебника, о геройских их подвигах. Потом и рыцари стали друг за другом о собственных преславных похождениях сказывать, но однажды обнаружили, немало тем опечалясь, что нет уже среди них волшебника Мерлина, ибо почил он на высокой скале, под кустом шиповника, и страшное чудище Дракон сон его охраняет. И порешили тут славные рыцари Круглого стола, и прежде всех сэр Кэй, сэр Галахад и сэр Ланселот, что Мерлина они освободят и пробудят. А про сэра Кэя шла молва, будто он — сын Гор и Огня и победить его трудно, почти невозможно. Про сэра же Галахада верные люди говорили, что он живет в доброй дружбе с тиграми и, стоит ему появиться, как тигры те, словно кошки, мурлычут вокруг него да поглаживают спину ему могучими своими лапами. А сэру Ланселоту сверхъестественные силы помогали благодаря матери его Вивиане, фее Озера, и Ланселот преславный, победив великих рыцарей без числа, заслужил любовь королевы Гиневры и дружбу короля Артура. И единственно матери своей, фее Озера, обязан он тем, что, сразившись с Драконом, чью силу не объять разумом человеческим, убил этого лютого зверя и Мерлина пробудил, хотя и заплатил за то собственной жизнью. Не видала еще земля бриттов трех рыцарей, этим подобных, и посему справедливо прославляют их в песнях величальных и небеспричинно поминают храбрость их, равно как и подвиги».
Когда расходятся на покой мои домочадцы, я остаюсь один и в неверном свете от пылающего очага да колыхающегося язычка лампады читаю множество подобных, а то и еще более наивных историй. Видно, записаны они такими грамотеями, которые — что же еще мне остается о них думать? — хоть и поднаторели в начертании букв, да не слишком пекутся об истине… может, потому, что не ведают ее, а может, попросту и знать о ней не желают. Конечно, если бы попадались мне одни только хроники, монахами писанные, кои — противоборствуя старинному и все ж вечно новому вероучению Мерлина — ратовали за Спасителя, не подозревая даже, сколь часто об одних и тех же событиях ведут речь, их замысел мне был бы понятен: когда важные и доподлинные события, подчас покрытые грязью и кровью, удается низвести до легенды, а там и до сказки, они теряют свою силу. Но что сказать о бардах, все переиначивающих под звуки лютни, что сказать, если и мои друзья, и друзья друзей моих, все равные мне по рождению, твердят почти то же, хотя и по иным причинам? Если даже память народа скудеет?
Вот почему порешил я изложить письменно историю Артура, Мерлина, Дракона и рыцаря Ланселота. Это писание навряд ли способно будет соревноваться по красоте с вдохновенной фантазией певцов или с умными, свою цель преследующими творениями монахов; но пусть так, пусть нет в нем красоты, зато оно правдиво. И поскольку в прежние времена разум мой занят был делами ратными, а теперь заботят меня дела землепашцев, то и руки мои лишь к мечу да к плугу привычны, перо же им в тягость, и потому я предвижу: моя хроника, пожалуй, оскорбит слух многих знатоков и ценителей. Ведь слог ее прост, да и сама история, в ней изложенная, не столь затейлива, как того требуют нынешние вкусы.
И все-таки говорю: я напишу эту историю, ибо верую, что сие необходимо для собственного моего душевного спокойствия, и напишу так, как господь по силам моим дозволит. Потому что истина и вкусы не всегда в один след ступают; вкус — это всего-навсего луг, который в зимнюю снежную пору один вид имеет, по весне он иной, иной и цветущим летом, а как наступит осень, меняется опять. Зато истина — что скала: часто мрачная и опасная, но все же неисповедимо прекрасная. И не от стройных форм ее эта дивная красота, а от самой ее сути. Пусть жаркий летний суховей заносит ее песком или зимняя метель покроет снегом, скале все нипочем, она по-прежнему остается скалою, и ничем иным.
Есть у меня и еще один резон. Хронисты и барды то и дело оговариваются: «Это я слышал там-то», «Вот это поведал такой-то». Я же всех действователей моей истории знал лично и очень хорошо — Ланселота же знал, пожалуй, лучше, чем он сам себя. Я был причастен ко всем значительным и незначительным ее поворотам и, клянусь богом, владыкою этого мира, — хоть не своей рукой уничтожил Дракона, но за гибель его ответ держать чуть ли не в первую голову мне, послужит ли мне сие на беду или во славу!
С тех пор, как учение владыки Христа победно распространяется по свету, я усердно стараюсь в нем разобраться. Тупые речи невежественных священников, что бродят по селениям, стоят немногого, но из тех сочинений, что не минули рук моих, не ускользнули от моего внимания, я вычитал немало могучих, даже героических по чистоте своей и бескорыстию помысла поучений и принял их всем сердцем. Многих же, напротив, не принял. Изречение «Не судите, да не судимы будете!», можно сказать, под дых меня ударило. А вот я — пусть я песчинка против человека столь умного, который, может быть, самому господу богу сын, хотя, может, и нет (сие одним только священнослужителям ведомо, если ведомо), — я говорю так: судить непременно должно, чтобы и меня мог судить каждый. Однако я вовсе не желаю затевать спор-тяжбу с клириками, какое мне до них дело? Здесь ведь речь лишь о том, что решился я написать эту хронику и намерен чинить в ней свой суд, жаждая и даже требуя суда над собою.