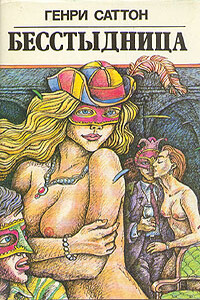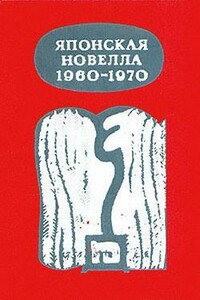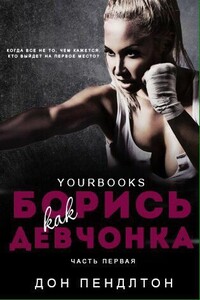Это было не бессердечие. Люди в городе считали, что это самое настоящее бессердечие, но они ошибались. На самом деле это была своеобразная декларация, что, мол, да, Бог свидетель, он — человек. Человеческие существа ведь не животные и не должны вести себя подобно животным, и поскольку Сэм Хаусмен так считал, он и держал себя в руках. Доносившиеся из спальни крики раздирали ему сердце, но он и не думал закрывать магазин. Он не хотел проявлять слабость. Магазин работал, и он стоял за прилавком, продавал мешки с овсом, сбруи, вожжи — все, как обычно. Вернее, нет, работы у него даже прибавилось: ему приходилось быстрее поворачиваться, потому что в магазине в этот день было много народу — люди приходили чего-нибудь купить и посмотреть, как он суетится за прилавком, обслуживает покупателей, а в это время его жена кричит в дальней комнате.
Перед домом на улице стояла запряженная чалой лошадкой повозка ветеринара. Ветеринар принимал роды. В городе был доктор, но он слыл пьяницей, и Сэм не позволил ему даже приблизиться к Эллен. Лучше уж трезвый ветеринар-лошадник, чем пьяный врач. А люди, которые приходили глазеть на Сэма, видели повозку ветеринара и, разумеется, как всегда, истолковывали все превратно. Считали, что он просто скряжничает, боится потратить лишний доллар из своего «капитала». Но ему было наплевать на то, что о нем думали. Вся его жизнь в этом городке была нескончаемым упражнением в искусстве не обращать внимания на пересуды обывателей. Или, лучше сказать, в доверии к себе и своим собственным суждениям. И еще — в умении осознавать свое превосходство над другими. Ему это стоило многих лет и бесчисленного количества расквашенных носов и подбитых глаз, но он своим обидчикам спуску не давал и в конце концов вышел из этой битвы победителем. С того дня, как он отдубасил в лесу за школой Джейка Керна, никто больше не осмеливался назвать его «выблядком». По крайней мере, в лицо. А как о нем отзывались у него за спиной, ему было наплевать. Он научился видеть эту разницу.
Эллен опять закричала. У Сэма, который как раз в этот момент отмерял десять футов цепи для Фрэнка Спенлоу, даже рука не дрогнула, он лишь крепче стиснул зубы. Он-то ведь все равно ничем не мог ей помочь. А рядом с ней сейчас док Гейнс, ветеринар. И мать Сэма. Да и Эллен — женщина крепкая. Поэтому он отмерил нужную длину, потом взял кусачки и перекусил цепь. Спенлоу уплатил. Он дал сдачи. Спенлоу ушел. И даже тогда, когда магазин на некоторое время опустел, он не позволил себе расслабиться, не поддался желанию пойти туда и посмотреть, все ли там в порядке. Он никогда не поддавался своим желаниям. Он просто им не доверял. Держать себя в руках, всегда держать себя в руках!
В дальней комнате Эллен лежала на кровати, дожидаясь новых схваток. Док Гейнс сидел на стуле в углу, жуя потухший окурок сигары и поигрывая цепочкой от карманных часов. Около кровати на низенькой табуретке восседала мамаша Хаусмен и держала Эллен за руку. Всякий раз, когда подступали схватки, Эллен цеплялась за руку мамаши Хаусмен так сильно, что делала ей больно, и мамаша делила с роженицей ее мучения. Когда боль отступала, мамаша Хаусмен говорила: «Ну и хорошо». Она знала цену боли.
Мамаша Хаусмен. Не «миссис». Ее никогда не называли «миссис». Это слово было какое-то голое и неуютное, словно вот эта комната, и она с подозрением относилась к нему, как к ненужной роскоши. Присутствие доктора — пускай он даже ветеринар — и женщины, которая может утешить и поддержать, — этого она была лишена, когда сама рожала тридцать лет назад. Как лишена была и мужа, ожидающего в соседней комнате. Бедняжка Сэм пришел в этот мир незаметно, как какой-нибудь ягненок в хлеву на ранчо. И назвали его Сэмюэлем в честь Сэмюэля Тилдена, который, как писали тогда газеты, стал их новым президентом. А потом бедный мистер Тилден, которого взяли и объегорили — ах, как ему не повезло! — лишился президентского кресла, но мамаша Хаусмен не захотела менять сыну имя. Она не имела ничего против мистера Хейса, но что это за имя такое — Резерфорд?[1]
Так что все осталось по-прежнему: Сэмюэль для мистера Тилдена и для Хаусмена — это была их фамилия, ее и ее отца. Фамилию же отца Сэма она никогда не знала. Он был рекламным агентом бродячего театра. Однажды он объявился в городе с плакатами и билетами, бесплатными сигарами для мужчин и бумажными веерами для женщин. По чистой случайности отец, Амос, взял ее тогда с собой в город. Он редко выезжал в город и обычно оставлял ее одну на горном ранчо. Но в тот раз он решил, что ей, наверное, хочется поехать вместе с ним. Потом, когда уже это случилось, они никогда не вспоминали о том дне, но ей всегда казалось, что отец просто подумал, что настало время выдать ее замуж и для этого ей следовало почаще показываться на глаза городским мужчинам.
И вот они отправились в город, где она и встретила этого симпатичного парня с бумажными веерами. Он ей дал один и уже собрался было уйти, как вдруг передумал и попросил у ее отца позволения угостить ее лимонадом. Амос в тот момент был занят обсуждением цен на шерсть. Он ответил: «Конечно», — и продолжал свою беседу. В конце концов, куда они могли пойти? И что могло случиться? Городок ведь был маленький, две улочки, несколько метров деревянного тротуара да две-три коновязи. Амос поглядел на парня, который назвался Джейсоном таким-то, — тот выглядел вполне прилично. Поэтому Амос и сказал: «Конечно», — и продолжал обсуждать цены на шерсть. А через полчаса он уже забеспокоился, а еще спустя полчаса пошел их искать.