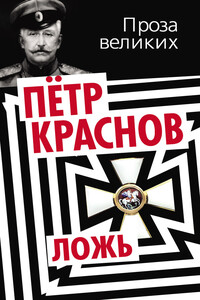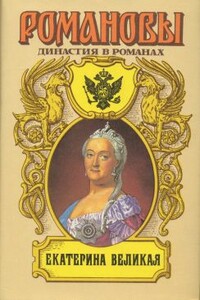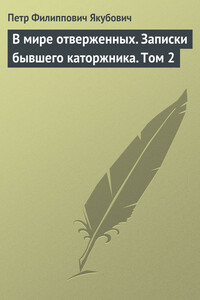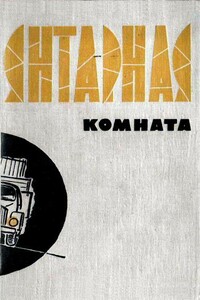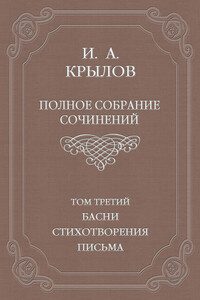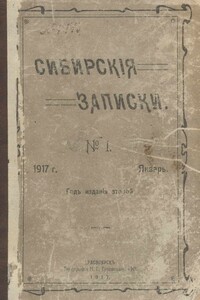КОГДА ЧАСЫ ПРОБЬЮТ ТРИНАДЦАТЬ
— Тринадцать!
Подполковник Павел Иванович Козловцев окинул нас быстрым взглядом, подсчитал, нахмурился и сказал:
— Пошлите за Карлом Васильевичем.
— Не придет, — отозвался от стола ротмистр де Шеней. — Он теперь на органе играет. Да и вообще к нам не придет.
— Нет, пошли, Коля, непременно пошли, — сказала его жена, единственная дама в нашей офицерской гусарской семье. — Мне и так страшно в этом холодном замке, а тут еще нас тринадцать.
— Послать — пошлю, только знаю, что эта латышская собака не придет к нам.
— Можно верить в дурные дни и в дурные числа, можно не верить. Одним везет в них, другим не везет. Наш поручик Дернов, например, тринадцатого выиграл императорский приз на «Бланкете». Тринадцатого, в японскую войну, получил первую боевую награду: «клюкву» на шашку, произведен в офицеры в пятницу и в понедельник удачно развелся со своею женою.
— Нет, пожалуйста, господа. Я имею основание верить, — сказал подполковник и, зажигая свечи в больших канделябрах, их было два — один на семь свечей, другой — на шесть, предусмотрительно не зажег, будто бы по забывчивости, в первом одной свечи.
— Обстановка повелевает, — суетился подле закуски и водки шустрый Петр Михайлович.
Обстановка в то время была не совсем обыкновенной. Время смутное — 1906 год. Шла атака на власть. Горели иллюминации помещичьих усадеб. Чернь ликовала. Эскадрон стоял «на усмирении» в Лифляндии. Только что сожгли Сосвеген, замок-музей баронессы Вольф, певицы Алисы Барби, где погибли в огне исключительная коллекция нот, редкая скрипка Страдивариуса, рояли, автографы, венки, библиотека: осколки старины и славы. Замок стоял с обугленными стенами.
Внутри, в угле и пепле, валялись черепки фарфора, хрусталь люстр, перекрученные стальные и медные струны, обломки мраморных статуй и ваз.
Сожжен Альт Швинебург, где на глазах хозяина, барона Вольфа, чтобы мучить его, пытали его любимую верную собаку. Отрубили ей лапы, выкололи глаза. Убили бы и барона: уланы выручили…
Кругом пылали корчмы, скирды хлеба, и местный телефон то и дело звал куда-нибудь на помощь.
Замок, где мы расположились, был брошен владельцем. В высоких, богато убранных комнатах стыла тишина и стоял немой холод. Чудились шорохи, стоны. Софья Ивановна уверяла, что в замке должны быть приведения.
На праздник Рождества собрались в нем все офицеры дивизиона. Не приехал заболевший Петренко, и нас оказалось тринадцать.
Стол громадный — точно рыцарский — был накрыт в высоком, мрачном вестибюле, где пылал камин таких размеров, что можно было зажарить целого кабана. Стулья были с прямым и спинками, какие-то — Петр Михайлович сказал:
— «Торжественные».
По закоптелым, сырым, покрытым плесенью стенам висели старинные стальные доспехи и оленьими козьи рога — охотничьи трофеи. Узкие, стрельчатые, точно в готическом соборе, окна глядели в темный, засыпанный снегом парк.
«Гугенотами пахло», как сказал неугомонный Петр Михайлович, разливавший по рюмкам водку и расставлявший добытое в местной корчме вино.
— Господа! Приглашаю! — сказал он, прохаживаясь вокруг стола и осматривая цветные этикетки бутылок. — Батюшки! Названия-то, названия! Какие сногсшибательные. Если таково и содержание — до зеленых чертей можно напиться.
— Оставьте, вы… — сказала Софья Ивановна, зябко кутаясь в накидку, обшитую гагачьим пухом. — Не надо поминать нечистого к ночи. — Нет, вы только посмотрите! «Ковдуранто»! Рижская мадера по цвету и по виду — надо полагать — из черники. «Пуркари». — что-то латышско-французско-итальянское, Пур-ле-мерит, а это — пуркари… Прелесть…
Офицеры выпили и закурили. Стали усаживаться. Из больших дверей, ведших в зал, пахло свежим ельником. Там стояла большая рождественская елка, ее предполагали зажечь ровно после ужина. Часы суетливо постукивали тяжелым маятником. Время отмахивали.
Подполковник сел в голове стола, по правую руку села Софья Ивановна, по левую ее муж, де-Шеней, дальше размещались остальные офицеры. Шесть справа, считая и даму, шесть слева.