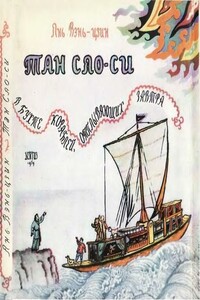2010 год
Аэропорт Домодедово сиял бело-синим глянцем кафельных полов и высоких колонн. Благодаря стеклянным стенам, чуть отливающим перламутром, создавалось ощущение, будто не было здесь замкнутого пространства, а шоссе, ведущее в аэропорт, плавно переходило на взлётные полосы.
Зал прилёта был переполнен. Люди с чемоданами, саквояжами и сумками разных калибров, словно муравьи в огромном муравейнике, сновали туда-сюда по залу, пытаясь обойти стоящую на пути толпу встречающих.
В этой терпеливой толпе, сосредоточившей свои взгляды на мерцающем табло информации о прилёте заграничных рейсов, среди всех выделялся высокий парень в светлых, по моде рваных джинсах и в очень свободном, словно вытянутом от стирки, бирюзовом джемпере. Его длинные, слегка вьющиеся волосы обрамляли довольно привлекательное лицо с васильковыми задумчивыми глазами и мягкой линией рта. Он создавал приятное впечатление мечтательного добродушного парня, каких довольно мало осталось в наше компьютерное сумасшедшее время.
Юноша в очередной раз посмотрел на информационное табло, отыскивая нужную строку.
– Рейс из Лондона задерживается ещё на час, – с досадой сообщил Никита пожилому мужчине в инвалидной коляске, на которого он был очень похож внешне, но разительно отличался выражением лица.
В отличие от сына у Иннокентия Петровича во внешности не было ни грамма добродушия. Наоборот, хищный прищур его глаз и вечно поджатые в презрительную ухмылку губы говорили о нём как о человеке с очень непростым характером. Довершала неприятное впечатление привычка редко смотреть в глаза собеседнику, так что казалось, что для Иннокентия Петровича данный человек не представляет никакого интереса. Но если уж его тяжёлый пронзительный взгляд надолго останавливался на бедолаге, то мало кому удавалось сохранять при этом спокойствие. Обычно это сулило собеседнику большие неприятности…
– Задерживается ещё на час?! Это в её духе, – зло ухмыльнулся Иннокентий Петрович. – Ещё в детстве она опаздывала всегда и везде. Даже на собственные похороны наверняка её принесут с опозданием.
– Да уж, отец, не очень-то ты жалуешь Варвару Петровну, – заметил Никита.
– Как и она меня, – парировал Иннокентий Петрович.
– Вы ведь родные брат с сестрой, даже близнецы. А столько лет вообще не общались. И всё своё имущество она почему-то решила подарить каким-то чужим людям. Странно всё это… Отчего у вас такая вражда? – спросил Никита даже не из любопытства, а просто чтобы не стоять молча с отцом еще один час.
– Рассказывать долго, – отмахнулся Иннокентий Петрович.
– Ну и что. Всё равно придётся здесь ещё долго ждать. А так, глядишь, и время быстрее пролетит.
– Вот буду писать мемуары, тогда и почитаешь, – раздраженно ответил Иннокентий Петрович. – А пока нечего тебе в мою жизнь свой нос совать.
– Вообще-то я твой сын, – обиделся Никита, – поэтому имею право задавать тебе подобные вопросы.
– Много будешь знать – не успеешь состариться, – пробурчал Иннокентий Петрович. – Вывези меня лучше отсюда. Здесь душно.
Никита послушно вывез отца через вращающиеся стеклянные двери на улицу. Иннокентий Петрович закурил и, угрюмо глядя под ноги на мокрый после дождя асфальт, углубился в свои тяжелые мысли о сестре: «Действительно, вот ведь курва, всё имущество хочет отдать посторонним людям!!!»
Наконец-то объявили о посадке рейса из Лондона. Никита подвёз инвалидную коляску поближе к двери, из которой выходили прибывшие пассажиры.
– А ты её узнаешь? – спросил он отца. – Вы ведь столько лет не виделись.
– Ищи самую безобразную старуху. Она и будет твоей тёткой, – проворчал Иннокентий Петрович.
В числе первых появившихся в дверях пассажиров вышла, опираясь на палку из слоновой кости, очень худая статная женщина в элегантном бежевом брючном костюме и широкополой шляпе. Когда она сняла тёмные крупные очки и обвела зал высокомерным взглядом, Никита понял: вот она, Варвара Петровна. Она была очень похожа на отца: те же тонкие, аристократические черты лица, высокие скулы, а главное, огромные выразительные глаза ярко-синего, словно луговые васильки, цвета. От удивления Никита присвистнул.
– Ого! Шикарная женщина! И выглядит даже моложе тебя, – подкольнул он отца.
– Старуха – она и есть старуха, – проворчал Иннокентий Петрович. – Вбухала небось половину состояния на пластические операции. А всё равно на дряхлую кобылу похожа.
Женщина их тоже сразу узнала.
– О! Братец! Ты ещё, старый чёрт, не перебрался на кладбище? – вместо приветствия произнесла дама, направляясь прихрамывающей походкой к ним.
– Только после тебя, дорогая, – парировал Иннокентий Петрович.
– Ну да, мерзавцы живут дольше порядочных людей, – пристально посмотрела на брата Варвара Петровна и, ехидно ухмыльнувшись, стукнула тростью по инвалидной коляске. – Одно греет душу, что ты не радуешься жизни, а просто догниваешь свой век.
– Кто из нас более мерзавец – это ещё можно поспорить, – пробурчал Иннокентий Петрович. – А ты, я вижу, тоже здоровьем не пышешь.
Сказаны все эти слова были без крупицы юмора, отчего Никите окончательно стали ясны взаимоотношения между его родственниками.