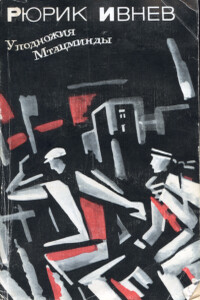О дружба, это ты!
Жуковский.
У меня три друга: – мой друг, друг моего друга и враг моего врага.
Изречение индусского философа..
Враг! Слово Враг! Сколько мыслей.
Сколько мыслей и сколько мук.
Пусть к кликушным я буду причислен.
Вот поцелуй мой, – жестокий друг.
Рюрик Ивнев.
У меня много друзей. Вероятно, есть и враги. Но я не понимаю дружбы и не понимаю вражды.
Да, да, положительно я всех люблю и всех ненавижу.
Вот почему мои четыре письма к имажинистам я называю четырьмя выстрелами.
И ты, Есенин, бархатная лапка с железными коготками, как тебя, по моему, очень удачно окрестила одна умная женщина, – и ты, великолепный и выхоленный Мариенгоф, – и ты, остроглазый, умный Кусиков, – и ты хулиганствующий Шершеневич – все вы заслуживаете воображаемых пуль, которыми я пронзаю из своего бумажного револьвера ваши бумажные сердца.
В утешение (свое и ваше), если только утешение может доставить кому-нибудь удовольствие, скажу:
Что я стреляю в вас не от злобы; а от любви, т. е. не от любви, потому что я никого не люблю, а от переполненного сердца.
Чем оно переполнено? Не знаю.
Вероятно, каким нибудь новым чувством (четвертое измерение), в котором любовь и ненависть соединены в один клокочущий и опьяняющий напиток.
Итак, становитесь к стенке!
Пришли тяжелые времена. Брат восстал на брата.
Я поднимаю свой револьвер и произвожу четыре выстрела.
ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА в ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ.
Рюрик Ивнев
Выстрел первый – в Есенина
Пусть пред твоим державным блеском
Народы робко клонят взор.
Хомяков.
Умом Россию не понять.
Тютчев.
Люблю я вечером к деревне подъезжать
Над старой церковью глазами провожать
Ворон играющую стаю.
Среди больших полей, заповедных лугов,
На тихих берегах заливов и прудов
Люблю прислушиваться к лаю
Собак недремлющих, мычанью тяжких стад.
Тургенев.
О, родина моя! О, родина терзаний!
Минский.
Так же будет Россия,
Как и теперь стоять,
Будут песни глухие
В монастырях звучать.
Рюрик Ивнев.
А Русь все также будет жить.
Плясать и плакать у забора.
Сергей Есенин.
Я часто думаю о тебе. До чего ты связан с Россией. Кровью, на жизнь и смерть.
У меня вырвалось в стихах, посвященных тебе:
Кто не прочтет иероглиф России,
Тот не поймет есенинских стихов.
Ты это знаешь. В этом – твое счастие и в этом же твое несчастие…
Мариегноф – это Балтика. Кусиков – одним глазом посматривает на вершины дагестанских гор. Шершеневич – «безродный». Куда его не брось, он всюду найдет свою родину и ему всюду будет хорошо.
Один ты кровью связан с Россией и за это я люблю тебя особенно.
Я помню тебя юношей, почти мальчиком, белокурым, тоненьким на фоне тяжелых петербургских набережных, чугунных мостов и величественного мрамора..
Ты приехал прямо из Рязани – резвый, звучный, золотой, загадочный в своей простоте и в своей затаенности. Ты уже тогда знал, что золото звука – образ. Ты врезался в литературное тесто зубцами золотой пилы.
Я помню весь твой путь.
Сначала под крылышком Гиппиус и Философова, потом, в дни революции, пьяным от мартовского воздуха.
Помнишь, мы встретились на Невском, через несколько дней после февральской революции. Ты шел с Клюевым и еще с каким-то поэтом.
Набросились на меня будто пьяные, широкочубые, страшные. Кололись злыми словами.
Клюев шипел: «Наше время пришло».
Я спросил: Сережа, что с тобой?
Ты засмеялся. В голубых глазах твоих прыгали бесенята. Говорил что-то злое, а украдкой жал руку.
Простились.
Вы ушли..
Я глядел вслед: шли трое по снегу, махали руками, а навстречу, петербургские сумерки, лиловые, прозрачные, с таинственными раскосыми глазами. Я никогда не забуду этой мартовской петербургской оттепели. И тогда, и потом, и теперь ты возбуждал и возбуждаешь во мне самые разнообразные чувства.
Тебя нельзя не любить. Было бы дико отрицать твой талант. Но из бархата твоих «лапок» часто высовывается этот убийственный железный коготок. Под славянскою маской, даже не маской, а кожей – «душное черное мясо» татарского всадника.
Недаром тебе так хочется с чисто-татарской жестокостью.
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.
И хотя ты божишься что твоя «душа грустит о небесах» и хочешь внушить нам, что она «не здешних нив жилица» – мы не верим тебе.
Буду петь, буду петь, буду петь,
Не обижу ни козы, ни зайца
говоришь ты, но мы знаем, что ты можешь и хочешь и по своей натуре должен (вполне естественно) обидеть и «козу», и «зайца», человека и даже Бога. Недаром ты сознаешься:
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня Господь.
Вот это твое нутро, твоя жизнь, твоя правда
Кстати, этим двустишием ты мне до жуткости близок, может быть потому я и люблю тебя так сильно. Помнишь я обмолвился такими словами:
Господи! Тысячу раз
Имя твое повторяю
Тихим движением глаз
И человеческим лаем.
(Самосожжение, СПБ. Фелана, Стр. 34)
Вероятно, в этом кроется ключ нашей дружбы. Впрочем, не только в этом. Мы оба любим Россию и оба неравнодушны к заре.
Мы оба видим Россию одними и теми же глазами.
Я про Россию:
Так же будет Россия
Как и теперь стоять,
Будут песни глухие
В монастырях звучать
(Весна 1914 г.).
Ты про Россию:
И Русь все также будет жить!
Плясать и плакать у забора.
Я мечтал о ласке зари, говоря все в той же книге: