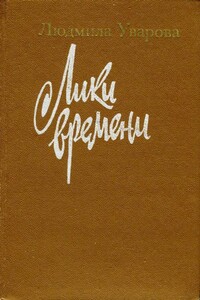1
Ночами он мечтал о дожде.
Просыпался через каждые два часа и слушал плотный шелест листьев, бегущих по ветру: не вода ли полилась? Или вздрагивал от редких шагов одинокого пешехода, надеясь, что это стучат капли на балконе. Но когда поднимал голову и глядел из глубины комнаты в окно, то видел сухую лунную дорожку на крыше. И тогда начинало давить под левой лопаткой и мучила мысль, что жизнь прожита и что уже ничего не поправишь.
Чтобы прогнать сухость во рту, он шел на кухню, искал в холодильнике молоко, которым всегда забывал запастись, и пил водопроводную воду, хотя в июле, сколько ни гони из крана, она все равно была теплой.
Уже давно, давно ночь перестала придавать его квартире черты странные или жуткие. Все оставалось таким же обыденным, как и днем. Бывало, он боялся ночи, порою запугивал себя до того, что не мог поглядеть в темный угол и, отвернувшись, искал скорей выключатель. А теперь равнодушно шарил в потемках, входил в другую комнату, садился в глубокое мягкое кресло и бессмысленно смотрел на рабочий квартал, где скоро уже, через час-два, должны были загореться первые окна.
Глаза окончательно привыкали к мраку; он видел стулья, квадрат телевизора и очертания бронзового полководца; все смиренно стояло на своих местах. Он выдвигал ящичек в неполированной, под старину, стенке, ощупью находил металлическую полоску седуксена, выдавливал таблетку и, не запивая, проглатывал. И снова сидел в кресле, успокаивал себя, говоря, что не надо забивать голову ерундой, что многое еще успеется и не так уж все мрачно.
Иногда — и это было почти счастье — на оконном стекле появлялись струйки, словно слезы, и он тут же шел спать, зная, что теперь, даже без седуксена, сон придет.
Сон был его главной роскошью, его богатством и прихотью; он смаковал засыпание, стараясь, чтобы подольше не прерывалась слабеющая ниточка между миражом и явью: то погружался с головой, то снова выныривал, прорывая тонкую пелену добрых и уродливых снов.
Где-то в половине одиннадцатого сволакивался с постели, растрепанный, опухший (даже если накануне ничего не выпивал), брел на кухню, вяло готовил чай, долго читал газеты, отодвигая, отдаляя неизбежный час работы.
Но час этот все равно наступал. Он подходил к электрической машинке, включал ее, слушал ровное гудение и, как кот воду лапой, быстро трогал одну из клавиш, затем другую, третью. Веселая абракадабра выскакивала на листе. Он садился, поправлял стул, менял лист, и знаки выстраивались в строки:
«Писать художественные произведения стыдно.
Я написал: «Петр Порфирьевич умирал от инфаркта…» Но переживал ли я инфаркт? И почему я караю инфарктом какого-то Петра Порфирьевича? Вообще, вправе ли я выдумывать этого Петра Порфирьевича, занимать его бедами читательское внимание, убеждать читателя переживать за этого Петра Порфирьевича, которого даже и на свете-то не было…»
Он морщился, комкал листок и бросал его на пол, когда-то покрытый лаком, но исцарапанный стульями и обувью, закладывал новую страничку, печатал, вновь вытаскивал, чиркал ручкой. Постепенно разгорячась, он забывался, мурчал себе под нос, временами бросался с пучком листов в руке на трехспальную, развратно мягкую арабскую тахту, перечитывал страничку-другую вслух, снова садился за машинку, а когда становилось невмоготу, переводил дыхание в другой комнате.
Мягким нажатием кнопки оживал усилитель, с ревом, грозно вскипало что-то в левой колонке, система гудела, как гоночный автомобиль перед стартом. Затем разом все стихало, бесшумно вращался черный диск, и тихо, словно слетая с облаков на землю, вступал хор: «Покаяние отверзи ми, отверзи ми двери…»
Очнувшись под вечер, он включал один из двух телефонных аппаратов, который тотчас же начинал истошно кричать. С видимым страхом, словно его ударит электрический разряд, он дотрагивался до трубки, против воли поднимал ее.
— Братец! Давай пообедаем, братец! Только, братец, ничего не пить! — несся металлически бодрый голос.
Через полчаса он целовался в вестибюле клуба с поджарым, мутно улыбающимся другом, занимающим крупный издательский пост, читал на его лице искреннюю радость и от встречи, и от предстоящего шампанского («шампунь», как любовно говорил он).
За столиком, быстро и ладно сервированным, друг восклицал:
— А хорошо, братец, что без баб! Надоели, братец, бабы! Не поговоришь, братец!
Но вскоре все подергивалось легким хмелем, и одинаково значительными становились и слова собеседника, и источающее смутную прелесть лицо незнакомой женщины за соседним столиком, и содержимое пожираемой тарталетки.
Поздно заполночь он снова сидел за машинкой и выпечатывал, сердясь на неловкость пальцев, одно и то же имя: «Алеша», «Алеша», «Алеша»…
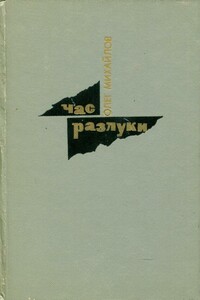
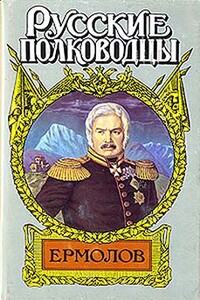
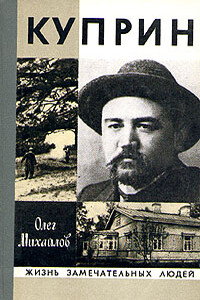

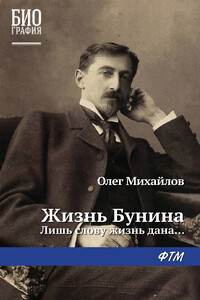
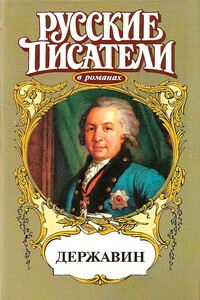






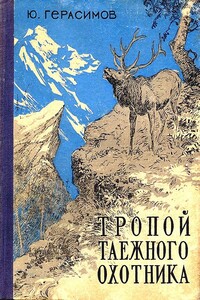

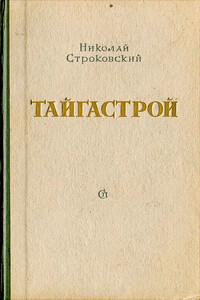

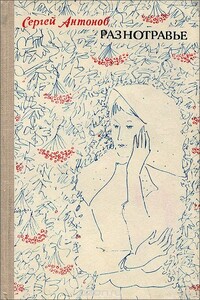
![Улыбка прощальная ; Рябиновая Гряда [повести]](/storage/book-covers/b4/b441843207b938ffce8d8d6e7fb5925012591093.jpg)