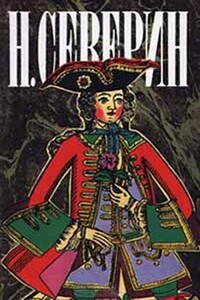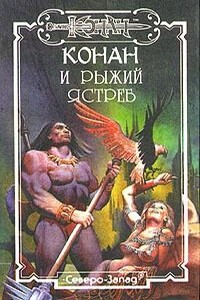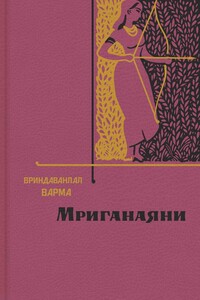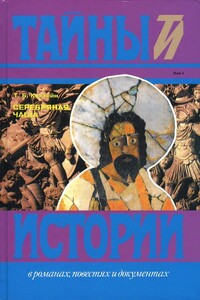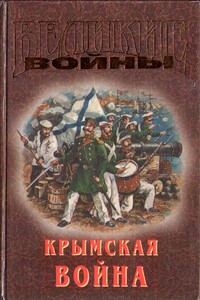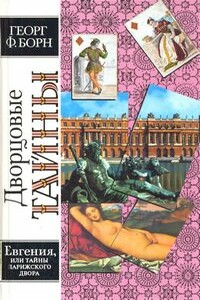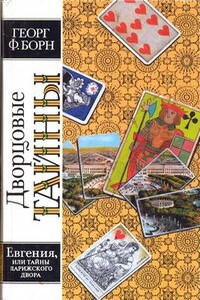Портной мастер Франц Карлович Клокенберг праздновал день своего рождения.
В опрятном одноэтажном доме с мезонином, выходившем окнами на громаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, окруженную лесами, было шумно, весело и тесно. Июньский день близился к концу, и пива было уже выпито порядочно; целый угол просторных сеней был завален пустыми бутылками, когда хозяин дома, без кафтана, с расстегнутым жилетом, весь красный, с выпученными глазами и взъерошенным хохлом на лысевшей голове, выскочил из мастерской, превращенной для торжества в столовую, и хриплым голосом гаркнул:
— Кетхен!
— Здесь, фатерхен, — откликнулся нежный молодой голос из горенки в противоположном конце дома, а вслед за тем появилась голубоглазая белокурая девушка в одной юбке, с вязаной косыночкой, наскоро накинутой на полные белые плечи. Она целый день помогала Анисье стряпать, выбилась из сил и собиралась ложиться спать, когда отец позвал ее.
— Что прикажете? — спросила она, тревожно всматриваясь в крупную, безобразную фигуру, пошатывающуюся на пороге.
— Пива нет, — заявил заплетающимся языком Клокенберг.
— Как же быть, фатерхен? — нетерпеливо спросила Катя.
— Послать! — отрывисто буркнул он и, хлопнув дверью, скрылся.
Девушка побежала в кухню, где солдатка Анисья мыла посуду при слабеющем свете догоравшего дня.
Эта баба жила у портного Клокенберга с тех пор, как он приехал с семьей из Германии; она вынянчила Кетхен, выучила ее говорить по-русски и любить Россию.
— Анисьюшка, у них пива не хватает, надо принести! — воскликнула Кетхен, вбегая в кухню.
Анисья всплеснула руками от изумления.
— Да неужто ж все выпили?
— Все. Может, и есть еще на столе, да им мало.
— Где ж теперь достать? Ну, ты сама посуди! Как, значит, зарю на абвахте пробили, так все погребки на запор, такое положение, ничего не поделаешь.
— Да ты как-нибудь… Зайди к Бухманам со двора, постучи в окно, скажи, что для Франца Карловича; они дадут, — умоляюще проговорила Кетхен.
— Эх ты, глупая твоя немецкая голова! А как же с бутылками-то мимо будочника пройду? Чтобы он меня сцапал да в часть поволок? А там, пожалуй, в кутузку запрячут, да ни за что ни про что разложат да лозанов пятьдесят и влепят.
— Как же быть-то? Отец ждет; он страсть как рассердится, если пива не будет.
Но Анисья продолжала в нерешительности покачивать головой. Вдруг ее осенила счастливая мысль.
— Мишутку разве попросить?
— Отлично! Пошли его, он — ловкий.
— Ловкий-то ловкий, да можно ли ему с фатеры отлучиться — вот что! Может, барина ждет… — сказала Анисья, но, сжалившись над растерянным видом барышни, прибавила, махнув рукой: — Уж попытаюсь, чтоб тебе от папеньки не влетело, делать нечего. Подожди меня тут…
Переваливаясь с боку на бок утиной походкой, Анисья полезла по крутой лестнице к жильцам, занимавшим у Клокенберга мезонин, а Кетхен подошла к окну и стала смотреть из него во двор, густо поросший травой, с сараем для дров и домиком, служившим прачечной и баней, в конце. С одной стороны сюда перевешивались через забор густые ветви деревьев соседнего сада, а с другой — тянулся длинный флигель, занимаемый подмастерьями.
Но сегодня ни во дворе, ни во флигеле не было ни души: по случаю дня рождения хозяина всех подмастерьев и мальчиков распустили по домам, с позволением на ночь не возвращаться. У мастера Клокенберга было правило никогда не показываться подмастерьям в чересчур веселом виде. По его мнению, это подрывало субординацию, а какое же дело мыслимо без субординации? Когда ударили к вечерне, во всем доме из посторонних, кроме Анисьи, никого не осталось.
Друзья Франца Карловича, все такие же «честные немцы», как он сам, стали собираться к нему при заходе солнца и мало-помалу так разгулялись, что, без сомнения, пропируют всю ночь, покуривая трубки, попивая пиво и разговаривая о политике.
Дам не было. С тех пор как фрау Клокенберг умерла (от тоски по родине и от перемены климата, по уверению мужа, а по мнению всех, кому была известна их семейная жизнь, от свирепого нрава своего супруга), Франц Карлович зажил холостяком. Он не только никогда не приглашал к себе жен и дочерей своих приятелей, но и дочери не позволял водить знакомство ни с русскими, ни с соотечественницами. Эти последние после смерти ее матери пытались было приласкать бедную сиротку, но Клокенберг с таким недоброжелательством относился к их посещениям, что все отстали от Кетхен, и, кроме как в кирке, ей не представлялось случая с кем бы то ни было обменяться даже поклоном.
Отчасти Кетхен была довольна этим. В том угнетенном состоянии духа, в котором держал ее отец, лучше быть одной — по крайней мере, никто, кроме Анисьи, не видит ее слез.
Не красна ее жизнь. Отец только о наживе думает. Покинул он свой любезный фатерланд и обрек себя на ссылку в «варварскую» Россию, чтобы скопить капитал и вернуться зажиточным человеком в тот маленький город, где он родился в бедной семье и провел молодость в тяжелой борьбе с нуждой.
Здесь ему с первого шага повезло. При покойной императрице Екатерине II щегольство так развилось в обществе, что хорошему портному нельзя было не нажиться. Всего десять лет, как Клокенберг поселился в Петербурге, но уже можно сказать, что его фортуна сделана. Человек он осторожный и недоверчивый, никому хвастаться удачами не станет и даже пьяный не проболтается, сколько именно у него червонцев скоплено, но все знают, что у него свой собственный дом и что даже половины доходов от мастерской ему не прожить.