Я хотела бы похвастаться, что в раннем детстве встречалась с разными известными людьми, но на самом деле хвастаться нечем. Я была тогда слишком мала и едва помню те времена и этих людей. Мельчайшие крохи этих воспоминаний не имели бы вообще никакой ценности, будь они о ком-либо другом, не о них. Да и так я не уверена, что они чего-то стоят. Однако один хороший поэт говорит мне, что и эти крохи представляют какой-то интерес и что их следует зафиксировать на бумаге. Не знаю. Боюсь, что процент сочинительства и украшательства, обычных в таких случаях, может перевесить ценность мелких этих осколков памяти. Однако не мне судить.
Чистополь, война (Вторая мировая, разумеется). Я в эвакуации, живу в детском доме. Меня отпустили в гости к дедушке. Дедушка, еврейский писатель Ноах Лурье, арестованный в тридцать седьмом и чудом выпущенный в тридцать девятом без права проживания в больших городах, поселился в избушке на окраине, и визиты к нему — единственные просветы в моей тоскливой и полуголодной детдомовской жизни. У дедушки мне дают «пирожное» — кусочек хлеба, намазанный топленым маслом, а сверху медом, и кружок мороженого молока. Так хранили там молоко: замораживали в блюдцах, затем блюдца снимали, а полученные кружки молочного льда складывали стопками в глубоких ледниках.
Я дорожу каждой минутой этих кратких визитов. И вот — я пришла к дедушке, а там сидит какая-то чужая женщина. Она не понравилась мне с первого взгляда. И даже испугала. От нее неслась ощутимая волна неприкаянности, подавленности, отчаяния. Я и сама была тогда придавленная и несчастная, и ее присутствие подействовало сильно и тягостно. Сразу захотелось плакать, вспомнилась мама, которой нет рядом, и папа, которого уже нет совсем. А хуже всего — она отнимала у меня дедушку, он разговаривал с нею и совсем не занимался мной. Женщина тоже не обращала на меня внимания — и к лежавшему перед ней угощению (явно приготовили для меня, а теперь отдали ей?) даже не прикасалась. Я очень хотела, чтобы она ушла, и, кажется, даже сказала ей что-то в этом роде. Кто она — я не знала и не хотела знать. Главное — чтоб ушла поскорей.
И она скоро ушла и вскоре после этого уехала в назначенную ей властями Елабугу. И вскоре после этого ее не стало. Не стало Марины Цветаевой, которая так не понравилась шестилетней мне.
* * *
Год был, по-видимому, сорок третий на исходе или начало сорок четвертого. Во всяком случае, зима. И война. Меня недавно привезли в Москву из маленького городка под Казанью, где я пробыла два года в эвакуации, в детском доме. Мы с матерью жили в старом деревянном доме на улице Воровского, в огромной коммунальной квартире, где занимали длинную, коридорообразную комнату. В одном ее конце была дверь, а в другом — окно. Вдоль стен плотно стояли книжные полки — книги были собраны умершим перед самой войной маминым вторым мужем Владимиром Грибом, известным тогда литературным критиком, чьи писания вскоре после этого надолго впали в глубокую немилость (о чем я тогда, разумеется, не имела ни малейшего понятия).
Мать моя была молода, едва за тридцать, и необычайно хороша собой. Возраста ее я, разумеется, не замечала, но красоту видела даже я. Вокруг нее было немало мужчин, и я все время надеялась, что один из них станет мне папой, — мой собственный отец погиб на фронте в самом начале войны. Но мама тогда была всецело занята другим: мой брат от второго маминого мужа, отвезенный ею перед началом войны на лето к бабушке на Украину, оказался под немцами. Немцы наступали и отступали, городок, где жили брат с бабкой, то освобождали, то отдавали обратно, и мама выклянчивала пропуска (бронь это называлось), выбивала билеты на поезд и дважды ездила на Украину. Невообразимые трудности этих ее поездок описывать не буду, но возвращалась она оба раза ни с чем. А в перерывах между поездками она лихорадочно металась в поисках литературного заработка, чтобы прокормить меня и себя.
И очень часто мужчины, заходившие повидать маму, заставали дома меня одну. Среди них наверняка были всякие интересные люди, и некоторых я даже помню по именам, но никаких существенных воспоминаний о них не сохранилось.
А вот одного, оказывается, немножко запомнила. То ли потому, что он приходил чаще других, то ли он казался мне добрее других и я особенно хотела иметь его папой. Другие заходили, узнавали, что мамы нет дома, задавали какой-нибудь скучный детский вопрос — и уходили. А он никуда не торопился и, казалось, рад был и моему обществу. Разговоров с ним я, разумеется, не помню, но помню, что ничего нарочито детского в них не было, что обсуждалось всегда что-нибудь существенное и жгуче для меня интересное. Поэтому приходы его я особенно любила, и именно без мамы, потому что при маме он становился каким-то прибитым, суетливым, а на меня переставал обращать внимание.
Внешний его облик почти забылся. Неясно и скорее всего недостоверно мелькают в памяти редкие темно-русые вихры, стертые краски небольшого круглого лица, не слишком чистая и слишком легкая по сезону одежда.
Вот сейчас вспомнила вдруг, что однажды (без мамы) он принес бутерброд с селедкой, я думала, что весь мне, но он разделил его пополам и свою половину сразу съел.

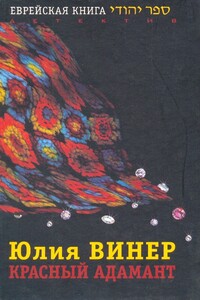

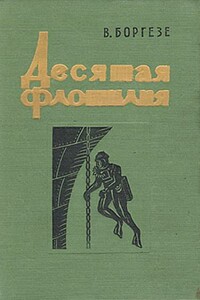
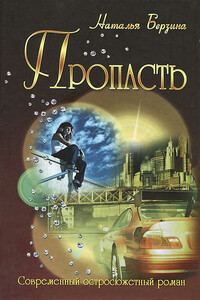






![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
