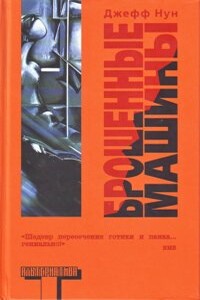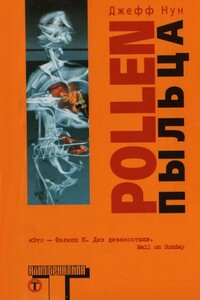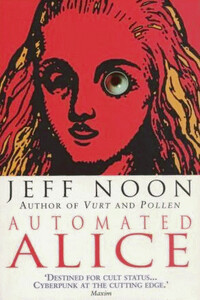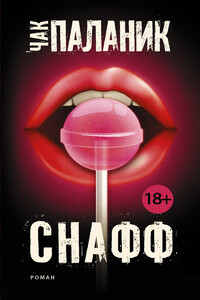Вчера всё сорвалось. Чтобы так плохо — такого у нас ещё не было. Они все были дома, вся семья в полном составе, и все как один — психопаты. Пришлось уходить ни с чем. Хендерсон получила по голове. Она обвиняет во всём меня. Нам надо было где-нибудь отсидеться, и мы вписались в мотель на окраине города. Местечко унылое, мрачное. Какие-то люди шатались по коридору всю ночь, причитали, стонали в голос. Заснуть — невозможно. Кровь в унитазе, говно на стенах. Все зеркала и даже экран телевизора густо замазаны чёрной краской. Но там было дёшево — и безопасно. Нас никто ни о чём не спросил, даже когда мы сказали, что хотим снять одну комнату на троих. А утром — снова в дорогу, и ехать ещё далеко. Очередная работа. А нам оно надо? Настроения после вчерашнего — никакого. Все сидят мрачные и подавленные. Все молчат.
* * *
Мы остановились поесть. Самое лучшее, что нам попалось, — передвижная закусочная, припаркованная у шоссе на площадке для остановки транспорта. Там же стояло несколько столиков. Кормили, кстати, вполне прилично. Мы поели и приняли порошок. Павлин сказал: пусть нам всем будет хорошо — отныне и впредь, несмотря ни на что. У него бзик насчёт правил. Хендерсон поморщилась.
За соседним столиком сидела семья: папа, мама и дочка. Девочка подошла к нам. На вид лет шесть-семь; с грязными русыми волосами и как будто застывшим взглядом. Она спросила меня: «Хочешь поиграть с моей куклой?» Я дёрнула за верёвочку, как мне было сказано, и кукла заговорила — таким противным тоненьким голоском, растягивая слова. Я не поняла ни единого слова, но девочка так обрадовалась, словно игрушка призналась ей в вечной любви. Она завизжала от счастья и принялась прыгать на месте.
И пока я смотрела на этого смеющегося ребёнка и слушала надломленный кукольный голосок, ко мне снова подкралась боль — холодная и пронзительная тоска. Я попыталась закрыться, не подпустить к себе этот холод, но было поздно. Да, поздно. Что мне делать?
Куда идти?
* * *
Уже не один час в пути. Всё было нормально, пока мы не попали в пробку. Рваные вспышки полицейских мигалок в мягких вечерних сумерках. Любопытство, опасность, смерть — уже состоявшаяся или в процессе. Рёв сирен. Машины сгоняют на одну полосу. Полицейский показывает: проезжайте. Мы проезжаем.
Я смотрю на него в окно.
Очень молоденький, нервный. Руки в белых перчатках. Серия повторяющихся движений, по одному взмаху на каждый автомобиль. Всё должно было быть очень просто: упорядочить движение, освободить проезд для «скорой». Но нет. Впечатление было такое, словно тут исполняют какой-то сложный ритуал. Первобытный обрядовый танец. Лицо полицейского скрыто под хирургической маской.
Его руки как будто ласкали воздух, так нежно. А потом указали прямо на меня. Руки трепетного любовника. Но я всё равно не смогла понять смысл его жестов.
Надо быть осторожнее.
Мы проехали дальше, теперь — совсем медленно, к месту аварии. Большой грузовик с прицепом лежал на боку. Его, наверное, вынесло со встречной полосы. Должно быть, он шёл на приличной скорости, потому что снёс центральное ограждение и выехал где-то на середину крутого травянистого ската с той стороны дороги. Мне представилось, как эта громада на мгновение замерла там, наверху, потом пошатнулась, и рухнула вниз, и сползла к тому месту, где лежала теперь, сложившись чуть ли не вдвое: длинный прицеп так и остался на травянистом склоне, а кабина частично перегородила шоссе.
— Закрой окно, — сказал Павлин.
— Зачем?
— Тебе же показали, что надо закрыть.
На месте аварии было полно полицейских. Хотя до темноты было ещё далеко, там уже установили прожекторы — то есть пытались установить. Искусственный свет мерцал в рваном, сбивчивом ритме: вспыхнет на пару секунд, потускнеет, снова вспыхнет, погаснет, опять загорится. А потом вдруг единственный луч взметнулся в небо. Багровое небо, первые звезды.
Холодная голубая Венера только-только взошла.
И вот над нами навис опрокинутый грузовик; с такого близкого расстояния он казался огромным, как дом. Раздалось сердитое шипение, полетели искры. Это кто-то из пожарных пытался разрезать дверцу кабины автогеном. Санитары «скорой» уже стояли наготове с носилками и аптечкой.
Бедняга водитель был заперт в кабине, живой или мёртвый, пока непонятно. Что же пошло не так?
Мы еле-еле ползли в плотном ряду машин, а потом и вовсе остановились. Оттуда, где мы стояли, было хорошо видно, что при падении прицеп открылся, и часть груза вывалилась на дорогу. Это были какие-то деревянные ящики. Асфальт поблёскивал битым стеклом. Облако пыли висело в воздухе. Столько подробностей… у меня голова пошла кругом. Слишком много всего, слишком много информации. Шум опять подступал вплотную.
Луч прожектора вращался по кругу. Вот он высветил блескучие золотистые искры; у меня перед глазами как будто раскрылось соцветие из фиолетовых и золотых переливов. Пахло горелым металлом. Во рту появился сухой металлический привкус. В ушах звенело. Шипение горящего газа.
— Эй, ты чего?
Это Хендерсон: обернулась ко мне с переднего сиденья. Её лицо, её волосы, спутанные и всклокоченные, налились ярким, насыщенным цветом, когда луч прожектора мазнул по машине.