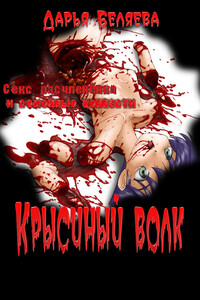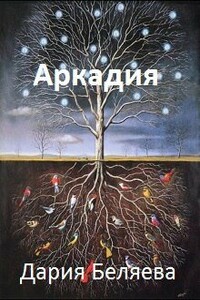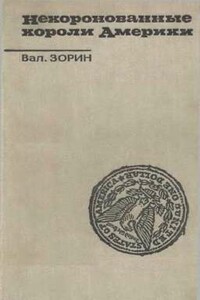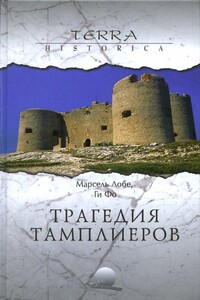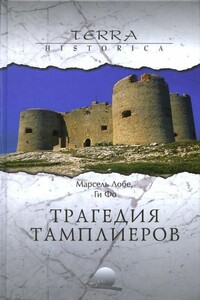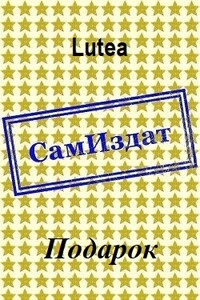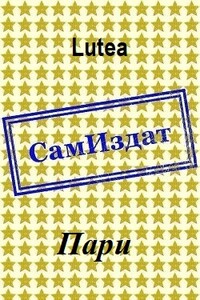Я целовал ее, ощущая пульсирующую границу между желанием и ужасом. Любовь и война пробуждают страх, как ничто. С войной все более или менее понятно, война это деятельный способ уничтожения других людей самым ужасающим образом, активная возможность совершения зла. Вина — это вид ужаса перед самим собой, безусловно. Вина, война, она — все это ставит перед пустой. Что до войны, она прошла. Что до вины, пребывая в непрекращающейся озабоченности вопросом собственного существования, я несколько подзабыл, что такое вина. Но осталась она, и ее интересное свойство взывать к жизни непреодолимый ужас пустоты, где нет ни сознания, ни идентичности.
Прикосновение всегда обозначивает меня, как нечто реальное, но оно же и проникает внутрь, разрывает связи, и тогда просто хрупкое становится совершенно не существующим. Близость — это не боль, это много больше — прекращение существования. Желание приводит к исполнению желаемого, и мир разрушается всякий раз, когда все заканчивается. Однажды я задумался, что такое оргазм, если очистить его от шелухи физического удовольствия, которая вроде бы составляет его. Оказалось, бессилие, сокращение, опустошение.
Я знал, что она понимает меня. Знал, что она смотрит на меня с тем же страхом, который у нее, как у существа организованного в большей степени, чем я, сглажен условностями и символами, созданными человечеством для описания посткоитальной грусти. Она чувствовала то же, что и я, но для нее происходящее было скрыто, и она ощущала его лишь отдаленно, бьющимся в окно мотыльком, который не в силах привлечь внимания, или музыкой, играющей в отдалении.
Никогда она не переходила той грани, за которой ни у чего уже больше нет никаких имен и ни для чего не остается слов. И все же она ощущала неутолимый голод, уступающий место любовному, и глаза ее были влажными и наполненными темнотой.
Я поцеловал ее снова, и она коснулась пальцами моих губ, давая мне ощутить, как бьется ее пульс. Мое неловкое движение, любая мелочь, неуловимая резкость, может, даже мне самому незаметная, окунут ее с головой в переживания о том, как мы встретились впервые. На линии между мной и ней, на тонком нерве, я самым сложным образом балансирую, чтобы быть кем-то другим, не тем человеком, который пришел в ее дом с оружием. И даже если я и есть кто-то другой (ничто не остается прежним хоть сколь-нибудь долго), я хочу уберечь ее от боли, которую она уже испытала когда-то. Кто-то однажды произнес фразу, изрядно насмешившую меня. Мне сказали: время лечит.
Я долго смеялся, совершенно забыв суть разговора, который мы вели с моим собеседником, а теперь уже забыл и собеседника, и все это растворилось, если только существовало когда-то. Словом, лучше сказать, что есть народная мудрость полагающая, что истечение минут, часов, дней и лет делает заглушает пережитую нами боль. Ничто не затачивает боль острее, чем время. Она становится иглой, пронзающей даже кость, она становится лезвием, легко снимающим голову, становится разрывной пулей. Но она может казаться незаметной, эта боль, потому что, в конце концов, время прячет ее под подушку. Там она и покоится в ожидании одного воспоминания. И вот оно, конечно, позволит ей проникнуть внутрь с силой, которой в реальности, быть может, и не было никогда. Вспоминать много больнее, чем переживать. Исторической правды от воспоминаний ждать не стоит, факты в них мешаются с домыслами, сознание энергично заполняет пробелы и зоны умолчания. В конце концов, никто не знает нас самих так, как мы, и не может причинить нам столько же боли, сколько мы. Создавая самые унизительные фантазмы, мы превращаем прошедшее в настоящее, и оно оказывается еще большим кошмаром. Заглянув внутрь, можно увидеть не реконструкцию событий, которых больше не существует, но осколки ощущений, неловко склеенные и монструозно выглядящие.
Реальное же никогда не бывает кошмарным, даже худшее из происходящего в настоящем осмысляется с долей обезболивающего вовлечения.
Вот чего я не хотел для нее, не хотел, чтобы она измучила себя, не хотел, чтобы ранила. Нежность, которую я испытывал к ней и которую проявлял в ней, когда мы занимались любовью, была тонкой мембраной, образовавшейся между болью и лаской, которые были между нами. Думая о ней, я не проваливался в изменчивое и нестабильное пространство, и мое исчезновение все откладывалось и откладывалось, несмотря на удовольствие, за которым следовал ужас перед ничем, в которое, как никогда ясно, превращалось что-то.
Безобъектное, пустое и бесформенное пространство, наступавшее после любви, наполнялось по крайней мере ею, и я испытывал благодарность за ее испуганные глаза и беззащитные, бледные пальцы, в которых страсть тоже сменялась неизбежно страхом или готовностью к нему — настороженностью.
Она положила голову мне на плечо, а я растерянно водил пальцем по ее груди, ощущая тепло ее кожи и движение воздуха в ее легких. Когда я, наконец, отвел взгляд от нее, без сомнения настоящей, я увидел, как пульсируют контуры предметов вокруг. Они издавали чуть заметное свечение, расплывались и снова сходились в линии, как будто пространство вокруг было готово произвести на свет нечто новое. Даже у клеток в организме есть предел деления — около пятидесяти раз, а затем смерть неизбежна.