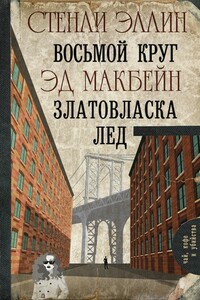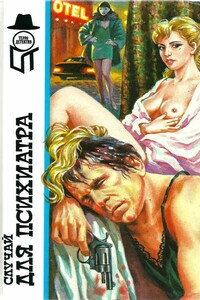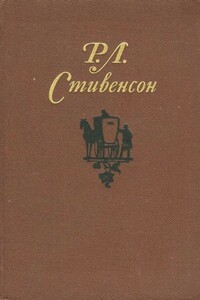Стэнли Эллин
Блоха Бейденбауэра
Я сидел на скамейке в Сентрал-парке, нежась на осеннем солнышке, когда в поле зрения появилась некая странная фигура — мертвенно-бледный мужчина, который шествовал с величественностью знаменитого трагика, любимца публики. На ходу он с привычной небрежностью помахивал ротанговой тростью.
Зачесанные назад снежно-белые волосы, картинно увенчанные потрепанной широкополой шляпой, ниспадали на плечи. Его узкий, в талию, сюртук с потертым бархатным воротничком, давно вышел из моды и был основательно потрепан на обшлагах. Узконосые кожаные туфли со сбитыми каблуками потрескались. Тем не менее, его поведение отличалось таким благородством и на морщинистом лице читалась такая скорбь, что я поймал себя на том, что испытываю к его потрепанному виду не столько иронию, сколько жалость.
Поставив трость между ног, он присел рядом со мной и сказал:
— Прекрасный денек, не правда ли?
— Да, — согласился я, — так и есть. — Вдруг меня охватило опасение. Я слишком легко поддаюсь на жалостные истории таких вот случайных знакомых, на меня действуют их молящие влажные глаза, протянутые руки. Я никогда не мог отказать потрепанному побирушке, который, остановив меня, снимает шляпу и просит подания на билет до места, где он и не собирается показываться.
У меня появилось ощущение, что я точно знаю дальнейшее развитие событий, и я напрягся, дабы не дать волю своей чувствительности. На этот раз, молча решил я, тут же удалюсь, пока не станет слишком поздно.
Но уйти мне не удалось. Едва я привстал, как сосед положил мне руку на плечо и мягким движением заставил снова сесть.
— Да, прекрасный день, — сказал он, — но какое он имеет значение для человека, который обречен страдать и искать, искать и страдать — все дни своей жизни, в горе и радости?
Я покорился своей судьбе, но настроение у меня было испорчено. Пусть он излагает свою историю, но когда протянет руку за ожидаемым подаянием, то не получит ничего, кроме рукопожатия. В чем я себе и поклялся.
— По всей видимости, — вежливо сказал я, не без труда скрыв подлинные эмоции, — вы провели жизнь в поисках чего-то. Чего именно?
— Блохи.
— Блохи?
Это антикварное существо скорбно кивнуло.
— Да, как ни странно, она и есть предмет моих поисков. Но, может, вы с большей готовностью поймете меня, если я представлюсь. Имею честь — Бейденбауэр. Тадеус Бейденбауэр. Итак, теперь вам ясно?
Он серьезно уставился на меня, но его вспыхнувшие глаза потускнели, когда я отрицательно покачал головой.
— Нет, – сказал я. — Очень жаль, но это мне ничего не говорит.
— Ничего?
— Боюсь, что нет.
Бейденбауэр вздохнул.
— Что ж, так проходит мирская слава… Она пузырь — блестящий и невесомый, стоит к нему прикоснуться и… Однако разрешите изложить вам мою историю. Да, она полна душераздирающей боли, но я уже привык к ней. Я столько раз в своих снах наяву пропускал через себя эту трагедию, что могу позволить себе рассказывать о ней, когда подворачивается такая возможность. Я расскажу, как все случилось.
— Вот уж в чем не сомневаюсь, — сказал я.
— Были времена (я передаю рассказ Бейденбауэра), когда мое имя было известно в столицах всей земли, когда великие мира сего почитали и чествовали меня, когда каждый день я был пьян от счастья, что молод, богат и наслаждаюсь радостями жизни. Ах, стоило бы вспомнить, как Бог карает тех, кто полон гордыни, но я этого не сделал. Я жил, упиваясь восторгами от мысли, что я — владелец Могучих Малюток Бейденбауэра, величайшего блошиного цирка в мире, который отдавал честь огромным невоспетым талантам блошиного племени так, как никто ни до, ни после него.
И до меня были блошиные цирки, будут и после, но эти дешевые двухпенсовые заведения не могли оценить всего величия того, что развертывалось на сцене. У меня все было по-другому. Я создал выдающийся театр. Выступал ли он перед деревенскими увальнями на ярмарках или же на суаре, где собирались представители самой голубой крови — неизменно аудитория бывала поражена до глубины души и, поднявшись на ноги, провожала артистов нескончаемыми аплодисментами. И все потому, что еще ребенком я понял секрет взаимоотношений между блохой и ее тренером, после чего с бесконечным терпением заставлял этот секрет работать.
— Я вижу, вы удивляетесь, о каком секрете может идти речь; но будете просто поражены, узнав, насколько он прост. Между человеком и блохой существует странный и удивительный симбиоз.
Блоха кормится, сидя на руке своего тренера и, подкрепившись, выходит на арену. На деньги, заработанные ее искусством, тренер покупает себе обед, обогащает состав крови, чтобы артист мог поесть и вернуться к творчеству. Налицо законченный цикл, блоха и человек подпитывают друг друга, и их сосуществование устраивает обоих.
— Вот, собственно, и все, но я был первым и единственным, который выяснил, что в основе этих взаимоотношений может лежать не только пища. Речь идет о симбиозе эмоций. Уважение, симпатия, понимание и любовь — да, любовь — все это должно присутствовать, ибо блоха, невероятно чувствительное создание, отчаянно нуждается в них. И не в пример всем прочим, я давал им это. Повсеместно торжествовала жестокость. Мои конкуренты считали, что надо пускать в ход грубые слова и тяжелую руку, чтобы обучить и вымуштровать блоху. Но моими правилами были мягкость и доброта, и с их помощью я добился высот успеха, в то время, как остальные канули в неизвестности.