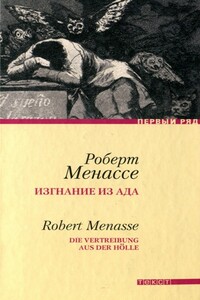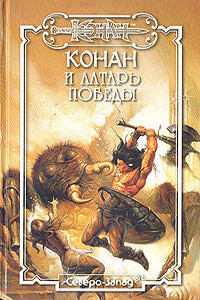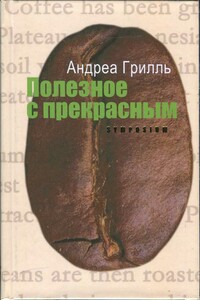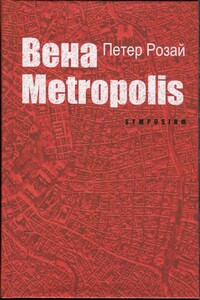26 февраля 1959 года Курт Вальмен, которому было тогда 52 года, выплеснул флакон универсальной протравочной жидкости на полотно Рубенса «Низвержение проклятых в ад» в мюнхенской Старой Пинакотеке. Полотно было испорчено едким растворителем навсегда. Преступник покинул место преступления незамеченным, но он, еще до того, как отправиться в Баварскую государственную картинную галерею, разослал в информационные агентства и редакции газет письма, в которых признавался в совершенном и обосновывал его. Как он утверждал, ему пришлось «принести в жертву» это произведение искусства, чтобы спасти все остальные художественные достижения человечества, чтобы спасти само человечество. Ибо мир катится к новой войне. Он же, Вальмен, разработал совершенную, законченную философскую систему, которая, если человечество с ней познакомится, способна до основания изменить жизнь и обеспечить вечный мир. Поскольку он — человек совершенно никому не известный, у него не было иного выхода, кроме как попытаться привлечь к себе внимание таким поступком, чтобы огласить свои философские тезисы, которые жизненно важны для будущего человечества. Ведь атомные бомбы, утверждал Вальмен, произведут опустошение несколько другого рода, нежели капелька кислоты. Он собирался превратить судебное разбирательство в трибуну, стоя на которой он познакомит всех с постигнутыми им истинами.
На следующий день Вальмен сам явился в полицию. Рассмотрев дело, председатель суда провел довольно короткое заседание, в ходе которого обвиняемый рассказывал о себе сам. Преступник, покусившийся на Рубенса, представленный средствами массовой информации как «безумец» и «сумасшедший», был признан дееспособным, получил срок, который должен был отбывать в тюрьме, и очень скоро о нем вновь забыли.
Когда Лео Зингер и Юдифь Кац познакомились весной 1965 года в Вене, предметом их первого длительного разговора был как раз Курт Вальмен. Зингер подробно рассказывал об этом самозванном непризнанном гении и неудавшемся преобразователе мира с воодушевлением, которому сам поражался, учитывая то одурманивающее телесное влечение, которое он испытывал, когда Юдифь была рядом, и от которого он, как ему казалось, терял голову и лишался дара речи, так что он сам не мог понять, откуда у него вдруг взялось столько слов. Вообще эта увертюра была настолько созвучна их отношениям, которые, начавшись в этот день, продлятся затем с перерывами в общей сложности восемнадцать лет, словно Зингер сознательно выбрал именно ее, зная о собственном поступке, который он совершит позже, словно хотел завоевать право потом, позже, оправдать его совершение как окончательный логический вывод из того, что было заложено в самом начале.
Нет, вы только представьте себе, говорил Зингер, ожидая, что эта женщина согласится с ним и сразу станет его союзником, отъединившись от всего остального абсурдного мира, — сегодня человека готовы объявить сумасшедшим только за то, что у него возникает намерение изменить мир, или если он утверждает, что создал законченную философскую систему. А что сказал, к примеру, Витгенштейн,[1] когда написал свой «Трактат»? Да ровно то же самое!
Не знаю. Но этот, как его там, ну, этот Вальден, его ведь объявили сумасшедшим вовсе не из-за этого, а потому что он картину Рубенса уничтожил.
Нет, его и раньше все время называли сумасшедшим, до того, как он уничтожил картину. Вот и Левингер, тот тоже все время повторял: сумасшедший!
Да-да, как раз от Левингера разговор перешел тогда на неудавшегося спасителя человечества. Лео Зингер увидел Юдифь Кац в университете, в буфете около большой лекционной аудитории, и ее появление сразу так подействовало на него, что он, словно зачарованный, в каком-то трансе тут же направился к ее столику, чтобы заговорить с ней. В ту решительную секунду ему это показалось таким же естественным, как, например, еда, если ты голоден, или сильное сердцебиение, если ты испытываешь страх, и когда он опомнился, ощущая ту стесненность, при которой человек опасается, что может быть унижен или отвергнут, то слова: «Я не помешаю? Разрешите?» были им уже сказаны, и он увидел уже, словно сквозь запотевшее стекло, как Юдифь кивнула. Уже через полчаса они вдвоем ушли из университета, чтобы где-нибудь в другом месте тихо и спокойно продолжить разговор, чтобы все-все рассказать друг другу, эдакая воркующая парочка, два человека, явно созданные один для другого.
Какая удивительная игра случая, — что мы встретились.
Это было неизбежно, сказала Юдифь, раньше или позже, но мы в любом случае обязательно встретились бы.
Да, может быть и вправду каждая случайная встреча на самом деле заранее намечена?
И он и она были детьми венских евреев, которые в 1938 году бежали от национал-социализма и под конец всех мытарств осели в Бразилии; Зингер, который родился еще в Вене, вырос в Сан-Паулу, Юдифь появилась на свет в Порту-Алегри и в конце концов тоже переехала со своими родителями в Сан-Паулу. Теперь они оба учились в Вене, Лео Зингер — потому что в 1959 году «вынужден был», как он выразился, сопровождать своих родителей, когда они решили вернуться на родину, где «все снова наладилось». Юдифи, наоборот, пришлось, осуществляя свое желание учиться в родной, но совсем незнакомой ей Вене, пойти против воли своих родителей, которые, несмотря на странную привычку говорить дома только по-немецки, о возвращении в Австрию знать ничего не желали.