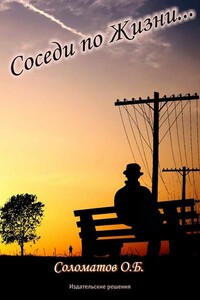© К.Старосельская, перевод на русский язык, 1991.
Дверь со скрежетом открылась, и в камеру вошел надзиратель. Был он высокий, худой; лицо землистое, под глазами темные круги - его донимала печень, и каждый, кто хоть сколько-нибудь здесь просидел, об этом знал; он сам вечно всем жаловался. Надзиратель громко кашлянул. Человек, сидящий на нарах, посмотрел на него выжидающе.
- Родители приехали, - сказал надзиратель. Голос у него был гнусавый. - Надо идти прощаться.
Сидящий на нарах молчал. Он разглядывал свои руки - большие, корявые, с потрескавшимися пальцами. Такие руки на первый взгляд кажутся неуклюжими и вроде бы неумелыми; нужно увидеть их за работой, чтобы убедиться, сколько всякого разного они умеют.
- Да, - сказал надзиратель и переступил с ноги на ногу. - Прощаться надо идти. Они с утра уже ждут, приехали первым поездом.
Сидящий встал, распрямился. Он был крупный, плечистый, с круглым лицом, и его остриженная под машинку темноволосая голова тоже была круглая как шар.
- Холодно сегодня? - спросил он. И стал растирать руки.
- Мы через двор не пойдем, - успокоил его надзиратель. - Просто спустимся вниз. Они там ждут.
Вышли из камеры. Надзиратель запер дверь. Пошли по коридору; заключенный впереди, спрятав за спину огромные ручищи. Навстречу двое арестантов тащили парашу. Один помахал конвоируемому и, подмигнув, сказал:
- Привет, приятель.
- Высшая мера, - сказал надзиратель. - Разговаривать запрещено.
Человек с парашей свистнул. Пошли дальше. Круглоголовый сказал:
- Мне во двор уже не выйти?
- Нет, наверно, - ответил надзиратель. Выражение лица у него было страдальческое, с самого утра он чувствовал, что вот-вот прихватит печенку. Они свернули в следующий коридор; шли очень медленно: заключенный в последнее время ходил мало, и у него болели ноги, обутые в тяжелые деревянные башмаки. Он кряхтел и спотыкался. Внезапно сказал:
- Ноги страх как горят.
- О-хо-хо, - вздохнул надзиратель. И пожал плечами. - Теперь уже недалеко.
Заключенный что-то пробурчал; ступать он старался осторожно. Не отрываясь смотрел на стены и вдруг сказал:
- Лампочка перегорела.
- Где? - спросил надзиратель. Оба остановились.
- Там, - сказал заключенный и поднял вверх свою громадную лапу.
Надзиратель поглядел. И вправду, одна из освещавших коридор лампочек не горела. Надзиратель покачал головой.
- Ну скажи на милость, - проворчал он. - Разве это лампочки? Зять мой купил на той недели три штуки, так две сразу перегорели. Пошел в магазин, обменять хотел, а ему говорят: «Вы что, смеетесь? Мы тут при чем? Какие дают, такими торгуем…» С лампочками теперь беда.
- Сколько стоит лампочка?
- Даже не знаю, - смутился надзиратель. И, насторожившись, спросил: - А тебе зачем?
- Да так.
Надзиратель внимательно посмотрел на него и сказал сердито:
- Идем, идем. Шутки вздумал шутить?
Пошли дальше вдоль закрытых дверей. Возле лестничной площадки дежурные арестанты мыли коридор. С шумом скребли пол щетками, насаженными на короткие черенки; пахло простым мылом и горячей водой. Когда они проходили мимо, один поднял потное лицо и шепнул:
- Браток, кинь чинарик, разживусь - отдам.
- Высшая мера, - сказал надзиратель. - Разговаривать запрещено.
- А кто чего говорил? - завелся тот. - Я, что ли, чего сказал? И не думал даже… - Он бросил щетку и с грохотом отодвинул ведро; надзиратель с круглоголовым прошли. Конвоируемый ступил неосторожно и зашипел.
- Сейчас, сейчас, - сочувственно сказал надзиратель. - Уже немного осталось.
Вошли в канцелярию, а оттуда в комнату, где ждали родители заключенного. Увидев входящих, они поднялись со скамейки.
- Можно поздороваться, - сказал надзиратель, и на его худом лице промелькнуло слабое подобие улыбки, но понять, что он улыбается, мог лишь тот, кто знал про его болезнь. - Можно сидеть. - И сам, поправив ремень с тяжелым пистолетом в кобуре, сел на стул у окна. Заключенный стоял посреди комнаты и жмурился; тут было гораздо светлей, чем у него в камере. Затем подошел к родителям; сперва поцеловал руку отцу, потом матери.
- Сегодня утром приехали? - спросил он.
- Ну, - ответил отец. Он был высокий, кряжистый; загривок вываливался из тесноватого воротничка; голос у него был зычный даже сейчас, когда-то он почему-то старался говорить шепотом. Сын на него не походил - ни лицом, ни повадками. - Целую ночь к тебе ехали, - строго сказал отец.
- В Ёдлове пересаживались?
- В Росташеве, - сказала мать, - теперь в Росташеве пересадка.
- Угу, - буркнул заключенный. Он норовил усесться так, чтоб полегче было ногам. Прислонился спиной к стене и вытянул ноги. И вдруг сердце у него заколотилось: он испугался, что отец - человек сурового нрава - велит ему встать: не любил отец, чтобы дети разговаривали с ним непочтительно. Заключенный вспомнил об этом и быстро спросил: - А чего там у Сидоровича?
- У Сидоровича? - раздумчиво повторил отец. Помолчал, подыскивая нужное слово, а потом сказал: - Да ничего - все то же. Лошадь вот только пала.
- Лошадь пала, - обрадовался заключенный. Он мечтал поскорее вернуться в камеру и снять башмаки. - Как же так?
- Пала - и прощай, - сказал отец. - Позвали ветеринара, да поздно, - он почесал в затылке, опять помолчал. Потом сказал наставительно: - К лошади подход нужен.