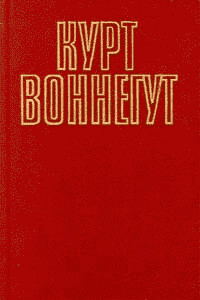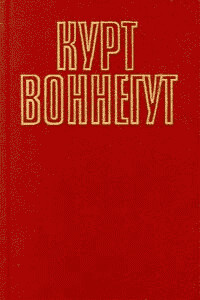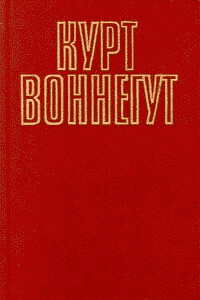Была осень, и деревья за стенами школы Линкольн становились того же ржавого цвета, что и голые кирпичные стены в репетиционном зале оркестра. Джордж М. Гельмгольтц, руководитель отделения музыки и дирижер, был окружен футлярами и складными стульями, и на каждом стуле сидел очень молодой человек в нервной готовности продудеть что-нибудь или — в случае секции ударных — что-нибудь отбить, едва мистер Гельмгольтц взмахнет белой палочкой.
Мистер Гельмгольтц, человек лет сорока, который считал свой огромный живот признаком здоровья, силы и достоинства, ангельски улыбался, словно вот-вот выпустит на волю самые изысканные звуки, какие когда-либо слышало ухо человека. Палочка скользнула вниз.
— Блю-ю-юмп! — сказали большие сузафоны.
— Бле-е! — откликнулись валторны.
И корпящий, визжащий, сварливый вальс начался.
Выражение на лице мистера Гельмгольтца не изменилось, когда басы сбились с такта, когда деревянные духовые растерялись и стали неразборчивы, лишь бы никто не заметил ошибки, а секция ударных звучала, как битва при Геттисберге.
— А-а-а-а-та-та, а-а-а-а-а, та-та-та-та! — Звучным тенором мистер Гельмгольтц запел партию первого корнета, когда первый корнетист, побагровевшей и потеющий, сдался и обмяк на стуле, опустив на колени инструмент.
— Саксофоны, я вас не слышу, — крикнул мистер Гельмгольтц. — Хорошо!
Это был оркестр «В», и для оркестра «В» играл неплохо. На пятой репетиции за учебный год нечего ждать лучшей сыгранности. Большинство учеников только поступили в оркестр и за предстоящие годы в школе приобретут достаточно артистизма, чтобы перейти в оркестр «Б», репетиция которого начнется через час, и, наконец, лучшие из них завоюют места в гордости города, «Оркестре Тен-сквер» школы Линкольн, иначе называемом «А».
Футбольная команда проигрывала половину матчей, баскетбольная команда проигрывала две трети своих, но оркестр — за десять лет под началом у мистера Гельмгольтца — до прошлого июня не уступал никому. Он первым в штате использовал в парадных шествиях жонглеров с флагами, первым включил в программу хоровые номера помимо инструментальных, первым широко применил тройное модулирование, первым прошел головокружительным ускоренным маршем, первым зажег фонарь в своем большом барабане. Школа Линкольн поощрила музыкантов оркестра «А» свитерами с буквами своего названия, и свитера пользовались огромным уважением — как и следовало. Оркестр десять лет кряду побеждал на конкурсе школ штата — до провала в июне.
Пока оркестранты «В» один за другим выпадали из вальса так, словно из вентиляции струился перечный газ, мистер Гельмгольтц продолжал улыбаться и помахивать палочкой уцелевшим и мрачно обдумывал поражение, которое потерпело его детище в июне, когда школа Джонстауна победила секретным оружием — большим барабаном семи футов в диаметре. Судьи, будучи не музыкантами, а политиками, слышали и видели только это «восьмое чудо света», и с тех пор мистер Гельмгольтц тоже ни о чем больше не думал. Но школьный бюджет и так кренился от расходов на оркестр. Когда попечительский совет выделял последнее спецассигнование, о котором мистер Гельмгольтц так отчаянно умолял (деньги на проволочные плюмажи с мигалками и батарейками для вечерних матчей, — все сооружение предполагалось прикручивать к шапкам оркестрантов), то заставил его, как запойного пьяницу, поклясться, что, помоги ему господи, это последний раз.
Сейчас в оркестре «В» звучали только двое: кларнет и малый барабан, оба играли громко и гордо, — и безнадежно фальшиво. Мистер Гельмгольтц, очнувшись от сладкой грезы о барабане большем, чем тот, что его одолел, прикончил вальс из милосердия, постучав палочкой по пюпитру.
— Ладненько, ладненько, — весело сказал он и ободряюще кивнул, выражая свои поздравления двоим, продержавшимся до горького конца.
Уолтер Пламмер, кларнетист, отреагировал с торжественностью солиста на концерте, который принимает овацию, возглавленную дирижером симфонического оркестра. Он был невысоким, но с широкой грудью и мощными легкими, которые разработал себе за многократные летние месяцы на дне того или другого плавательного бассейна, и ноту мог держать дольше любого в оркестре «А», гораздо дольше — но и только. Сейчас Пламмер приоткрыл усталые, покрасневшие губы, показывая два больших передних зуба, придававших ему сходство с белкой, поправил язычок инструмента, размял пальцы и стал ждать, когда его призовут на следующие подвиги виртуозности.
«Уже третий год Пламмер в оркестре «В», — думал мистер Гельмгольтц со смесью жалости и страха. Ничто не могло поколебать решимости Пламмера заслужить право носить одну из священных букв оркестра «А», но до исполнения его желаний было пугающе далеко.
Мистер Гельмгольтц пытался объяснить Пламмеру, что его честолюбие направлено в ложное русло, советовал другие области, где можно применить прекрасные легкие и энтузиазм, области, где слух не так важен. Но Пламмер был влюблен — не в музыку, а в свитера с буквами. Будучи глух к нотам как вареная капуста, он не видел в собственной игре ничего, что его бы обескуражило.
— Помните, — обратился к оркестру «В» мистер Гельмгольтц, — в пятницу день проб, так что будьте готовы. Стулья, на которых вы сидели сегодня, назначались произвольно. В день проб от вас будет зависеть, как вы себя проявите и какого стула на самом деле заслуживаете.