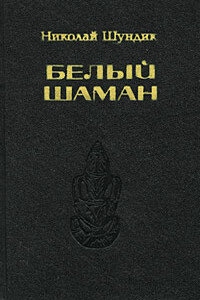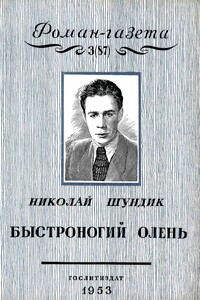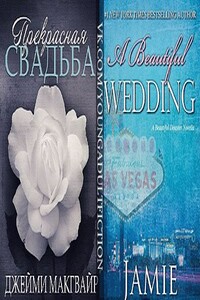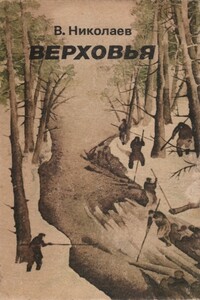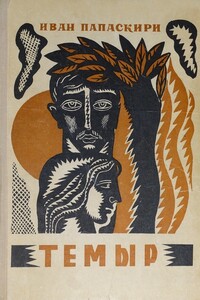Пойгин курил трубку и думал: почему он пригласил Ятчоля на охоту? Этот ли человек, с которым он всю жизнь враждовал, достоин его великодушия? Между тем от сочувствия к Ятчолю, от сострадания к нему даже, кажется, смягчался мороз; а он такой свирепый, что порой раскалывает с гулом ледяные громады морских торосов. Прокатится гул, и снова тишина — слышно, как стучит собственное сердце. Может, это не сердце, а Моржовая матерь стучит головой в ледяной покров моря? Как это важно — не ошибиться, не выстрелить в Моржовую матерь: иначе это будет похоже на выстрел в собственное сердце.
Она добра, очень добра, Моржовая матерь. Лед над морской пучиной для нее все равно что огромный бубен. Она без устали колотит головой в этот бубен, отгоняет злых духов — келет — от морского берега, тем самым оберегая людей от беды.
Пойгин вслушивается в подлунный мир, внемлет звукам ледяного бубна, в который колотит Моржовая матерь. Она добра, очень добра. И Пойгин добр. Не потому ли так усердны его собаки? Больше всех старается прирученный волк Линьлинь. Правда, похоже, волк все-таки обижен тем, что и сегодня не он ведет упряжку, но что поделаешь: стар уже, трудно ему, слепому, чуять самую верную дорогу в нагромождении вздыбленных льдов.
Стар Линьлинь. А кажется, не так давно это было: положил Пойгин перед волчонком печенку нерпы, почки ее и сердце — если набросится звереныш на печенку, это покажет, что у него такая непокорная волчья сущность, что его не приручит даже самый добрый человек; если выберет почки, значит, податлив будет на дружбу с человеком; если предпочтет сердце — совсем хорошо: есть надежда, что станет ручным, будь только сам человеком, имеющим сердце. Волчонок выбрал сердце, по крайней мере, так показалось Пойгину, хотя Ятчоль уверял, что звереныш впился зубами сначала в печенку. Однако Пойгин решил в душе, что приручит волчонка, даже если бы оказался прав Ятчоль, и дал ему кличку Линьлинь — сердце.
Пойгину запомнилось еще с детства, как приручал волчонка его дед. «Ты думаешь, все дело в том, чтобы волка сделать добрым? — спрашивал он не однажды внука. — Это верно, однако еще не совсем. Больше всего истины в том, что человек при этом должен изгнать дикого зверя из самого себя».
О, сколько раз потом вспоминал Пойгин эти слова, когда приручал Линьлиня. Порой приходил в отчаяние. Но корил больше себя, чем волка, горько размышляя о том, как мало похож он, Пойгин, на деда, как малы в нем силы добра. Однако шло время, человек и зверь все заметней сближались именно потому, что проявляла себя сила добра человека, перед которой ничто устоять не может.
Ятчоль не верил, что волк покорится, ревниво наблюдал за каждым его шагом и взглядом; а когда убедился, что сосед добился своего, сказал ему: «Все дело в том, что ты шаман, имеешь тайную власть над всеми зверями, входишь в особый сговор с каждым из них, а это может пойти во вред людям».
Больше всего не выносил Ятчоль глаза Линьлиня. Уверял, что взгляд волка прокалывает ему душу, и вся она уже в дырах, и дальше терпеть он этого не может: душа не торбаса, не кухлянка, ее не залатаешь. Ятчоль писал заявления в сельсовет, в район, даже в округ, требуя, чтобы заставили Пойгина убить волка, ходил к врачам, просил заключение, что душа его действительно вся в дырах, пусть будет справка врачей, как он выражался, «вечественным доказательством». Но никто не хотел внимать жалобам Ятчоля, и тогда он во спасение собственной души выколол волку глаза. Произошло это в ту пору, когда Пойгина унесло далеко в море на льдине, и уже не осталось никакой надежды, что он вернется. Ятчоль никому не сознавался, что совершил зло над волком, глубокомысленно рассуждал, что Линьлинь сам себе выколол глаза об острые выступы морских льдов: «Вы, конечно, все замечали, как он ходил к берегу и высматривал хозяина, вот, наверное, и разозлился на свои глаза, что они не способны увидеть его».
Имя Пойгина, которого скорее всего уже поглотила морская пучина, Ятчоль произносить боялся: тот, кто погиб в море, должен исчезнуть из памяти знавших его. Но Пойгин вернулся. Льдину, на которой он плавал, опять прибило к береговому припаю. Он, конечно, догадался, что ослепил волка именно Ятчоль; потом сосед и сам в этом признался. Но сегодня Пойгин не хотел думать о прошлом, сегодня он прощал даже это зло.
Нарта стремительно скользит по снежному насту, весело повизгивая полозьями. Пойгин любит как бы вступать в беседу со своей неумолчной нартой. «Поёшь?» — «Пою, пою». — «О чем так длинно поешь?» — «Обо всем, что у тебя на уме». — «А что сейчас у меня на уме?» — «Что ты добрый, готов забыть все обиды, готов все простить даже Ятчолю, не зря же вчера пригласил его на охоту».
Пойгин сочувствовал Ятчолю и потому, что у него ленивые собаки, и потому, что сам он ленив. Вот пришла пора подсчета, кто сколько добыл песцов, лисиц, кто сколько добыл нерпы, лахтаков, моржей; пришла пора громкого объявления охотничьей удачи и неудачи, пора объявления охотничьего почета и позора. И опять почет ему, Пойгину, а позор Ятчолю. И грызет сейчас Ятчоля зависть, зависть к Пойгину. А это, наверное, больно, когда тебя грызет голодной волчицей зависть, очень больно. И главное, ничем тут не поможешь человеку, особенно, если он больше всего завидует именно тебе.