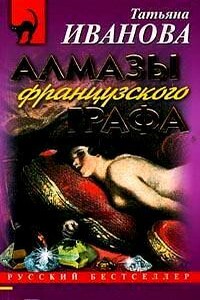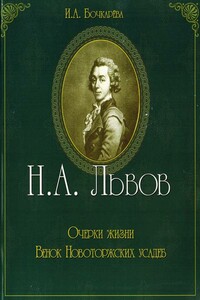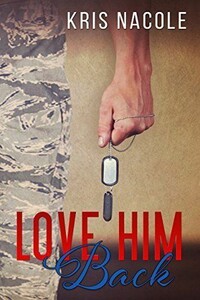Торжественный ужин в ресторане, на который Егор пригласил Флер в честь завершения ею учебы в университете, продолжался. Егор, изрядно разогретый вином, произнес очередной тост за ее успехи, а потом улыбнулся и медленно, с намеком на интригующую загадочность, вытащил из внутреннего кармана своего роскошного пиджака бархатный серебристого цвета футлярчик. Он с минуту бережно, двумя пальцами, так, будто это был не легкий металл, обтянутый мягкой материей, а необычайно хрупкий предмет, способный рассыпаться от усилия крепких рук, подержал его перед Флер, с интересом наблюдая за реакцией девушки, а потом нежно опустил сюрприз на свою ладонь.
«Ну? — говорил его молчаливый взгляд. — Что ты на это скажешь?»
Флер, к его великому разочарованию, ничуть не удивилась. Она даже не вскинула вверх свои изогнутые брови-дужки, делающие всякий раз ее симпатичное белое личико, обрамленное черными пышными кудряшками, до умиления обаятельным.
— Честно говоря, я думала, что ты сделаешь это гораздо позже! — ответила она и, как показалось Егору, буднично улыбнувшись, протянула руку к его ладони.
— А ты, похоже, не очень и рада! — заметил он разочарованно.
— Ну что ты, Эгор! — воскликнула Флер и, словно опомнившись, тут же расцвела счастливой улыбкой, подобающей случаю.
Эгор! Его имя, которое она произносила нежным голоском с начальной твердой «Э» вместо положенной мягкой «Е» и которое звучало в ее устах совершенно по-особенному, с трогательной растяжкой, так характерной для уроженки Чарльстона, сейчас не оказало на Егора своего обычного воздействия, из-за которого, как ему казалось, он и влюбился в Флер, и ничуть не смягчило его разочарования.
Они с Флер познакомились случайно два с половиной года назад в клинике, куда она сопровождала свою подслеповатую бабушку. Егор помог растерявшейся девушке, ведущей под руку старую миссис Элен Уилсон, отыскать нужный кабинет и не преминул познакомиться с приглянувшейся молодой брюнеткой. Сам он в тот момент спешил по какому-то срочному делу к отцу, который заведовал этой самой клиникой.
Отец Егора, Уваров Евгений Егорович, был знаменитым профессором-офтальмологом с мировым именем, решившимся иммигрировать в Штаты после настоятельных многолетних приглашений. Это произошло после перестройки, когда, казалось, исчезла последняя надежда реализовать накопленные знания и найти достойное применение для его уникальных рук хирурга. Хаос, царивший в еще только начавшей перестраиваться России и претендующий на неопределенную длительность, не позволил Уварову даже из патриотических соображений бросить в эту бурную пучину свой многолетний опыт, слишком значимый для медицины.
Они перебрались в Нью-Йорк, когда Егору исполнилось шестнадцать лет. И если он в силу своей молодости без сожаления покинул родную столичную школу, нацелившись на манящие перспективы свободоустойчивой величавой Америки, то этого нельзя было сказать об Ольге Николаевне, матери и супруге Уваровых. Ей, в отличие от сына, пришлось ради карьеры мужа расстаться не только со своей профессией экономиста, но и с ближайшими подругами, о чем она сожалела больше всего. Однако после нескольких лет прекрасно обустроенного проживания в Америке ностальгический нарыв хоть и саднил иногда в глубине широкой русской души Ольги Николаевны, но с каждым разом все менее ощутимо, как какая-нибудь старая, забытая болячка во время расходившегося ненастья.
Что было в душе Евгения Егоровича, для Егора оставалось загадкой, да и не задумывался он об этом по большому счету. Он привык видеть отца до изнурения занятого работой, всегда одинаковым и в России, и в Америке, серьезным и озабоченным. Только изредка, в минуты короткого отдохновения, выпадающего на его профессорскую долю, Егору с мамой улыбалось счастье на короткий миг ощутить его причастность к семье. Тогда он становился веселым, ласковым, заботливым, но смутная тревога гнездилась в его седеющей голове, и это было связано с отцом Евгения Егоровича, Егоровым дедом, в честь которого он и был назван.
Академик Уваров Егор Алексеевич, семидесяти восьми лет от роду, дед — умная голова, как называл его Егор, жил по-прежнему в Москве, наотрез отказавшись отправиться в Америку. И, как догадывался Егор, причиной тому была не просто боязнь ностальгической болезни, грозящей старику, но и некая тайна. В последние годы дед сделался замкнутым, «ушел в себя». Он совсем перестал наведываться к ним в гости на Маяковку, ссылаясь на занятость, да и к себе на Чистые Пруды без нужды никого из близких не приглашал. Отца по этому поводу одолевало беспокойство, мама недоумевала: откуда у пенсионера могут быть какие-то важные дела, не позволяющие ему общаться не только с сыном и невесткой, но даже с любимым внуком. С течением времени семья смирилась с этим стремлением деда к одиночеству, причем каждый объяснял поведение старика по-своему. Мама — возрастными причудами, отец тем, что великий академический разум, ощутивший к старости свою нереализованность, пытается чем-то для себя значимым это компенсировать, а Егор — некой тайной, которая, по его детским приметам, у деда конечно же имелась.