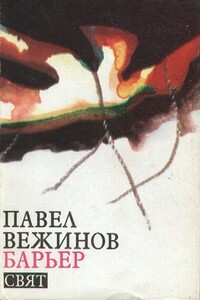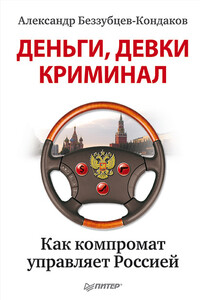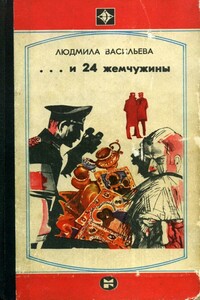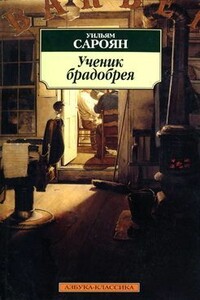Предлагаемый читателю сборник статей славистов Европы и России имеет свою предысторию. Она восходит к Международному симпозиуму, который проходил в феврале 2006 года в Бременском университете в рамках проекта Фонда Фольксваген «Взгляды Других, путешествия в метрополии: Берлин, Париж, Москва между двумя мировыми войнами». Бременскому симпозиуму предшествовали симпозиумы в Оснабрюке (Германия, январь 2004) и в Серизи-ла-Саль (Франция, сентябрь 2004), на которых метафорика «взгляда Других» или же «скрещивающихся взглядов» (regards с raisés) оказалась необыкновенно продуктивной при сравнительном прочтении немецких, французских и русских травелогов.
В этот период в рамках проекта вышло из печати три сборника на немецком языке[1]; четвертый сборник «Flüchtige Blicke. Relektüren russischer Reisetexte des 20. Jahrhunderts» появился в начале 2009 года. Из этого сборника для перевода на русский язык[2] были отобраны статьи, на наш взгляд, пунктирно отмечающие существенные этапы развития литературного модерна в России: от «беглого модерна» конца XIX века до модернистских «набросков» советского периода.
Концепт «беглого взгляда» как нельзя лучше соответствует состоянию бегства, в которое была ввергнута вся Россия, оказавшаяся в первой трети XX века в пучине революции и Гражданской войны. Именно этим состоянием обусловливалась вынужденная или намеренная «беглость» взглядов русских путешественников эпохи исторического перелома — не важно, где они находились в это время: в России или за ее пределами.
«Беглость» визуального ряда часто становилась причиной текстовых «сбоев»: зримый образ и написанное слово нередко вступали в сложные и противоречивые отношения, приводившие как к взаимозаменяемости, так и к взаимному отрицанию.
Понятия «свой» и «чужой» (другой) постепенно теряли привычные для травелогов смыслы, двигаясь от их противостояния к кажущейся идентичности, вплоть до полного снятия этого противопоставления или же, вследствие усиления идеологического начала, к совершенному отчуждению.
Вместе с тем в концепте «беглого взгляда» кроется чрезвычайно богатый эстетический и поэтологический потенциал. Пожалуй, наиболее точно это выразил О. Мандельштам в своем «Путешествии в Армению»: «Но глаз мой, падкий до всего странного, мимолетного и скоротечного, улавливал в путешествии лишь светоносную дрожь случайностей, растительный орнамент действительности».
Эти и некоторые другие особенности русских травелогов первой трети XX века представляются нам наименее изученными в современной науке. Настоящий сборник призван в известной мере заполнить существующую лакуну.
Путешествие на Солнце без возврата:
к вопросу о модернизме в русских травелогах первой трети XX века
I
Символист Андрей Белый в своем стихотворении в прозе «Аргонавты» (1904) изображает уникальное путешествие — познавательное и завоевательное, однако обреченное на гибель[3]. В начале XXIII века некий писатель, наблюдая заход осеннего солнца, задумывает путешествие за «золотым руном» по образу мифического путешествия аргонавтов. Чтобы познакомить других со своим замыслом, этот писатель вскоре издает журнал «Золотое руно» и инспирирует создание Межпланетарного общества, располагающего финансовыми средствами и техническими знаниями для создания первого космического корабля для полета на Солнце[4]. Через пять лет эта идея всюду приобретает многочисленных приверженцев, которые хотели бы отправиться в настоящее путешествие пилигримов, так как после долгого периода скепсиса человечество пережило религиозный ренессанс, выразившийся в первую очередь в создании «религии пилигримов»[5]. Техническое осуществление своих планов писатель доверяет глухонемому конструктору, который создает космический корабль из лучей солнца. Между тем приверженцы этого начинания объединяются в союз «кавалеров ордена Золотого Руна» и празднуют предстоящий старт солнечного корабля согласно средневековому ритуалу[6].
Поэты и инженеры поднялись наконец на борт «Арго», чтобы возглавить «переселение человечества на солнце» и «чертоги солнца наполнить»[7]. И хотя путешественникам удается преодолеть притяжение Земли, но вдали от людей, в пустоте космоса писатель осознает дерзкую самонадеянность своего предприятия, хочет привлечь к ответу инженера, но обнаруживает, что рядом с ним нет ни одного человека, а сидит только соломенная кукла в маске. Поэт умирает, его труп продолжает космический полет. А в это время на Земле его последователи-энтузиасты строят дальнейшие планы по переселению человечества, не подозревая о том, что их первый отряд уже потерпел крушение[8].
В стихотворении Белого буквально на нескольких страницах собраны основные мотивы литературы путешествий русского модерна, которая сплавляет миф и научную фантастику и одновременно развивает поэтику бегства и (визуальной) беглости, имевшую большее значение для жанра русских травелогов XX века, нежели считалось раньше. Прежде всего, этот фрагмент свидетельствует о восхищении символистов светом солнца, его сиянием, редкими и яркими красочными эффектами, отражениями, оптическими обманами и разного рода визуальными феноменами