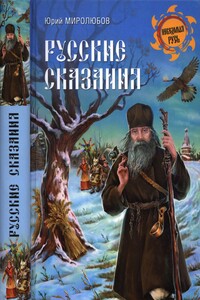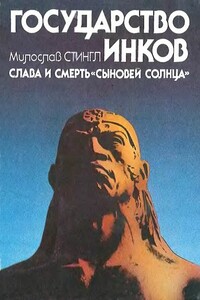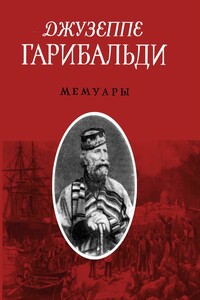В доме екатерининских времен, с колоннами и мезонином, было двадцать комнат, наполненных старинной мебелью, портретами вельмож в лентах и звездах, с неизменной табакеркой, зажатой меж пальцев.
Отец, подходя, трогал позолоту дубовых рам, сокрушенно покачивал головой и говорил: “Позолотить бы”, а мать отвечала: “Зачем? Именно так они и хороши”…
— Так-то так; да ведь отстают листки, и краска покоробилась. Протопить надо и окна раскрыть!
Вслед за чем являлась прислуга с охапкой березовых дров, раскрывала голубоватые рамы и принималась топить. Я бегал кругом, подкладывал дров, выглядывал в окна, трогал рукой цветущие сиреневые ветки, вдыхал их запах, чихал и выскакивал в сад, откуда смотрел на те же портреты, казавшиеся темней и суровей.
Кругом были липы, березы, розы, а дальше река и огромный яблочный, на два десятка десятин,[2] сад, и в глубине его ходили сторожа и паслись коровы.
Синее-пресинее небо блистало сквозь темные верхи деревьев, и когда шли тучки, казалось, что сам сад и дом плывут в бездонную пропасть.
По целым дням бродил я среди деревьев, снимал с вишен сладковатый клей, наедался им, затем брел в крыжовник, посмотреть, нет ли спелых ягод.
Жизнь текла чинно. В доме никто не сердился, и мне казалось, что это из-за суровых вельмож, покой которых не полагалось нарушать. Когда, набродившись в саду, входил я в дом, вельможи неодобрительно на меня поглядывали.
Переходя из комнаты в комнату, разглядывал я вещи, изучал каждую выемку или узор, трогал рукой тот или другой канделябр и пробирался в библиотеку, заставленную шкапами[3] с книгами в тяжелых переплетах.
Там был милый запах сафьяна и диких трав, лежащих на столах и подсушиваемых ветерком, врывавшимся в окна, и солнцем, с утра до вечера кружившим по комнате.
Дальше была дверь в полузабытую гостиную, вечно запертая. Наполнена она была старыми вещами в паутине, а в глубине стоял дубовый сундук с тяжелым висячим замком.
Часто я думал: “И что это в нем спрятано? Вот бы взглянуть!” И казались тысячи невиданных вещей, одна другой ярче и богаче, лежавших друг на дружке, и, если вынуть да взглянуть, ослепительно прекрасных.
Только вот замок… Тяжелый и неуклюжий, крепко висящий, не открыть. Мама на расспросы отвечала всякий раз одно и то же: “Нельзя, детка, это — бабушкин сундук!”
Но таков закон вещей, я часто приходил на него смотреть до боли в глазах, все думая, что он и что в нем. И казался он всегда таким же, точно жизнь его не трогала, и смена дней и годов проходила мимо, а я — каждый день другой, каждый год старше, больше… А сундук — вот, все тот же.
И что за старина такая! Стоит и стоит годами, на том же месте, темный, дубовый. А я — меняюсь, и куст под окном, с каждым годом все выше.
Уже и старую яблоню срубили, потому что родить перестала; уже левое крыло дома, покосившееся и осевшее, разобрали, сложили заново; перестлали поржавевшую железную крышу, заново дом выбелили известкой; сам я стал гимназистом, потом студентом, и отец с матерью поседели, и как-то уменьшились ростом, а сундук — все такой же, чуть потемневший, тяжелый, загадочный.
И на вопросы мама отвечала: “И зачем тебе знать, что в нем? Баловство одно! Это — бабушкин сундук. Да и времени нет возиться, открывать, и ключи не знаю, где… Он ведь в два ключа. Как-нибудь по свободе,[4] а сейчас некогда!”
Так прошли годы. Матери все некогда было, то туда, то сюда бежала, хлопотала, летом думала о зиме, зимой — о лете, вечно в заботах, в помыслах о будущем, во власти вещей текущих…
И над всем царил дубовый бабушкин сундук, загадка не только детства и юности, но и целой жизни; тяжелый бабушкин сундук, полный прекрасных, невиданных вещей, живущих нечеловеческой, собственной жизнью, в которой совершенно иной смысл, спокойный, раз навсегда установленный и запечатленный, как портреты предков-вельмож, в звездах и лентах, с табакерками и надписями: “Лета … тысяча седемьсот онаго…”
Теперь и я перестал спрашивать, а решил как-нибудь открыть и посмотреть, но, решив, почувствовал, что не в силах нарушить покой вещей, что не я, но — они взяли власть надо мной, и, нарушь я ее — неизвестно, как потечет привычный круг вещей и времени, из которых, казалось, вышла сама жизнь моя… Точно бы руку на себя поднял, да остановился! Запрет годов нарушить…
Так же зрели яблоки и груши, так же, покашливая, ходил отец, а мама — торопилась: “Некогда, детка! Некогда! Потом!”