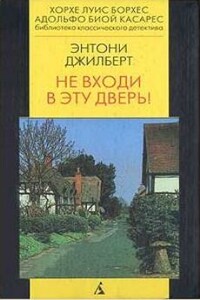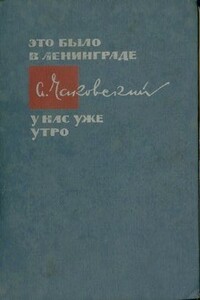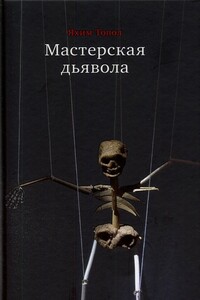11.08.2009 (вторник, день)
Итак, уже третий день, как я в этом грустном заведении. Привез меня сюда Филидор, и положили меня, как это ни грустно, в ту самую палату номер один, о которой я отзывался в предыдущем произведении исключительно в багровых тонах.
И вот там поселился и я.
Все, в принципе, оказалось так, как я и предполагал.
Привязывают к кровати, дверь закрыта, кормят как зверей, внося в комнату поднос.
Первый день я пролежал в обычной тоске, народ в палате (так и хочется написать – «камере») был что-то очень громок, и только те, кто был в тусклой алкогольной коме, – тускло молчали.
Поводом для насмешек был тихий человечек (своеобразный тип Акакия Акакиевича – алкоголика) со странной фамилией – Сидоров.
Мои добрые товарищи по палате придумали ему дружеское прозвище – Царь зверей.
Он какой-то деревенский, в смысле – колхозный, но настоящее его призвание иное – санитар-любитель.
Когда я в первый раз после капельницы открыл глаза, то сразу увидел перед собой расплывчато-доброе лицо Сидорова.
– Может, пить хочешь? – с тайной надеждой спросил он.
– Да нет, спасибо, – пересохшими губами ответил я.
Потом он с живейшим интересом наблюдал за движением жидкости в капельнице, и когда осталось капель восемьдесят семь и нужно было привешивать иной пластиковый пакет с очередной гадостью, он бросился к двери и с тревогой в голосе стал звать медсестру.
Прервался вчера, потому что писать в таких условиях невозможно.
Пишу я это уже в палате номер два, куда меня (слава кому-то там из пантеона) перевели в понедельник вечером.
Там писать было невозможно из-за практических причин: там не дают ни ручек, ни карандашей (очевидно, чтобы пациенты случайно не поранили друг друга), ни телефонов, ни часов и так далее, там у нас отбирают все, даже одежду, выдавая взамен кальсоны, тоненькую белую рубашку из какого-то простынного (кто-нибудь вроде Казановы написал бы, просто из одного упрямства – «льняного») материала с грустным треугольным вырезом на груди, и – по желанию, если вдруг человеку станет холодно – шерстяную рубашку с символическими квадратами разных цветов.
Во второй же палате – три наркомана, один старый зэк и так далее.
Шум стоит жуткий, часов до пяти утра.
Но, как любил говорить Ахимас Вельде – как там это будет по-немецки – итак, все по порядку.
Когда привозят какого-нибудь новенького, Сидоров в любое время дня и ночи, спит он или нет, встает рядом с кроватью новенького и тщательно следит, чтобы ему несильно привязывали руки, приносит ему попить (у нас на всех одна двухлитровая бутылка воды, которую мы наполняем, когда нас ведут в туалет, туалет только днем, ночью же в нашей палате рядом с дверью ставят ведро для отправления естественных нужд) или же просит сестру принести утку, что помогает, к сожалению, не всегда.
Это все я пишу для разминки, просто чтобы ожили рефлексы и рука снова начала писать.
Это чисто физическое упражнение.
Получается пока плохо.
Сижу сейчас во дворе храма Святого Пантелеймона на детских качелях и пишу, держа тетрадь на коленях.
Это довольно неудобно.
Храм очень похорошел за последние полтора года.
Немного, правда, раздражают иномарки, стоящие во дворе, они могут принадлежать только священнослужителям, так как миряне оставляют машины за закрытыми воротами.
Разбили еще несколько клумб, увеличилось число скамеек во дворе.
Есть даже небольшой фонтан.
Перед входом в храм, обрамляя ступени, равносторонним треугольником, лишенном нижней стороны и с вершиной в виде двери, ведущей в храм, высажены – по английской моде – цветы в больших кадках.
Сейчас время утренней службы (я решил каждый день ходить к утренней и вечерней службам), наконец-то после бесконечного «святый боже, святый крепкий» ударили колокола и стало повеселее.
Качели все еще покрыты росой.
Ну что ж, типа, Бог терпел и нам велел.
Грустно, что во дворе церкви нельзя курить.
Это довольно-таки неудобно.
Но я, типа, пытаюсь вырабатывать в себе позитивное мышление (правда, я не знаю, что это такое, но все равно пытаюсь его вырабатывать – типа, прощать страждущих, не гневаться на подающих и тому подобное).
Ладно, пойду-ка я все-таки за ворота покурить, а там уже скоро и на процедуры.
И только последний больной окончательно сломал Сидорова.
Это был молодой зэк в жутком состоянии.
Его привезли ночью, и Сидоров, несмотря на сон, все-таки проснулся и, отчаянно зевая, встал над его кроватью.
– Ну и зачем ты тут встал, пидор? – спросил его зэк (который позже стал нашим общим другом, условия в палате настолько плохие, что общий ужас поневоле сближает пациентов).
– Да вот буду следить за тобой, за капельницей, – богоугодным голосом ответил Сидоров.
– Я тебя убью, сука, – внятно сказал зэк по фамилии Абрамов, – когда мне развяжут руки, – я тебя убью, дальше пошел сплошной мат пополам с истерическим смехом.
Общий смысл слов Абрамова был простым и даже понятным: «Развяжите мне руки, чтобы я смог убить эту тварь прямо сейчас».
В принципе, какой-то определенный разумный смысл в его словах был.
Сидоров очень обиделся и пошел спать.
Спасло его только то, что утром его перевели в другую палату, причем не на первый, а сразу на второй этаж. Утром Абрамов, как это всегда и происходит, был тих и печален. Как сюда попал, он вспомнить так и не смог.