Зверь дышит - [4]
К чему я клоню? — Вообще-то, я клоню к тому, что, когда я говорю «я», я имею в виду довольно разнообразные субъекты. Именно так и говорил Кролик Винни-Пуху: «Я бывают разные». Поэтому в данной точке повествования я собирался, как и в предисловии, подчеркнуть свою неаутентичность — а вернее, своё многообразие.
Я часто задаюсь праздным и неприличным вопросом о своём месте в плеяде великих поэтов. И мне обычно доводится довольствоваться именно таким рассуждением: «Ну хорошо, пусть я не самый талантливый, — но уж наверное самый разнообразный. Кто разнообразней меня? Ну, кто? Пушкин? — Ну, это ещё потягаться… А за что я его и люблю…»
…Купил конверт и отправил? — Нет, не всё так просто: адреса я не знал. Мне пришлось позвонить Гере Лукомникову и спросить. При этом я страшно стеснялся. О Гериной безграничной доброте и деликатности я ещё не имел представления. Поэтому я на ходу выдумал какой-то неуклюжий проект с перепиской литераторов (вроде mail-artʼa) и спросил несколько адресов — среди них Светин. (А чьи ещё? — Митюшёва?.. Калкина?.. Тучкова?.. — не помню… но, в общем, из «смоленской» компании.)
Это было, наверное, на другой день после приезда, то есть числа одиннадцатого.
Впрочем, сейчас я не понимаю, откуда у меня взялся Герин телефон и почему я решил, что он может знать эти адреса. Пожалуй, потому, что он работал в «Гуманитарном фонде» и как-то был причастен к рассылке газеты…
«Конечно», — сказала Света решительно. Лишь два-три вопроса о том, что это за «бункер» и сколько мы там пробудем, — до утра?
Я ещё не знал, какой она бывает недоверчивой. Многие годы ушли на то, чтобы она привыкла доверяться мне в каких-то ситуациях (далеко не во всех). Но в тот момент в её тоне я чувствовал самоотверженную решимость. — Глубочайший скепсис, сложные лабиринты сомнений — всё отбрасывалось в этом порыве.
И странную ночь в «бункере» — подвальном складе, заставленном до потолка пачками типографской продукции, — она вынесла стойко, без жалоб.
Она хотела смотреть на меня, а я требовал от неё взгляда внутрь, — как впервые в холле турбазы, где она сидела в заднем ряду, в тени, и по её лицу бродили красноватые блики…
Я выключил грязный жёлтый свет между штабелями книг и зажёг свечку, которую специально принёс.
Приехал Дима Григорьев из Питера со своей второй женой Ольгой. Это было, пожалуй, в декабре — недели за две до того, как меня пригласили в Смоленск. Они приехали, потому что Ольга написала рассказ и получила вдруг за него премию на каком-то феминистическом конкурсе в Москве. Она читала этот рассказ, но в чём там дело, я совершенно забыл. Кажется, он назывался «Любовь»…
А незадолго перед этим я сочинил «Кротовую нору», и мне захотелось на них двоих испытать. Ольга убежала в туалет и там плакала — после первой части. Вот тогда мне и открылась сила этого текста…
Раньше там был какой-то выставочный зал (я имею в виду — в Троицком храме, а не в «бункере»). Выставки там устраивались промышленные — не художественные. Тем не менее, осталось несколько брошенных больших полотен, натянутых на подрамники. Живопись весьма грубая… не то чтобы абстрактная, а скорей декоративная. Должно быть, эти картины использовались в оформлении экспозиций. Стояла даже фамилия художника — но я не помню…
Я содрал с подрамника один холст, наиболее тёмный: месиво чёрных мазков с проблесками — вроде красного пламени. Отнёс его домой, разложил на полу посреди своей комнаты и стал изображать «кротовую нору» — закрасил ещё черней (проблески кое-где сохранил) и стал покрывать белыми точками, сходящимися к границе чёрного круга, оставленного в центре. На самой границе белые мазки толпились, теснились, образуя нестерпимое сияние, и — сразу проваливались в полный мрак, то есть за «горизонт событий».
Но в «бункере», на репетиции, этого холста ещё не было. Он появился только при первом исполнении «Кротовой норы» — в салоне Руслана Элинина на «Преображенской». Он там лежал на полу изображением вниз, и в конце первой части я его резко выдёргивал из-под Светы и переворачивал.
В «бункере» же Света сидела просто на моём спальном мешке, который я разложил поверх лежанки, выстроенной из пачек с книгами.
Кажется, у нас была бутылка вина или, скорей всего, какого-нибудь дешёвого иностранного ликёра, — их тогда много продавалось в киосках…
«Ты можешь довести себя до оргазма на слух?»
«Как это?»
«Ну, я буду читать… А ты ничего не будешь делать, только слушать… А потом, ну… испытаешь оргазм».
«Что ты! Так у меня не получится».
«Да нет, тихонько. Не надо никаких бурных реакций… Только всё же чтоб было заметно».
«Что я — притворяться, что ли, должна? Нет, не хочу ничего изображать!.. Я буду просто сидеть и слушать», — решила Света.
«Ну, давай попробуем… А жалко… Вот было бы здорово… Нет, изображать-то как раз ничего не надо ни в коем случае».
В те баснословные времена я ещё не читал Хокинга и потому не знал, что все «кротовые норы» постепенно «испаряются». Некоторые (маленькие) даже не «постепенно», а настолько быстро, что — взрывоподобно. Этот, казалось бы, парадоксальный результат на самом деле увязывает их существование с нашим обычным представлением о всеобщем возрастании энтропии.

Есть писатели, которым тесно внутри литературы, и они постоянно пробуют нарушить её границы. Николай Байтов, скорее, движется к некоему центру литературы, и это путешествие оказывается неожиданно бесконечным и бесконечно увлекательным. Ещё — Николай Байтов умеет выделять необыкновенно чистые и яркие краски: в его прозе сентиментальность крайне сентиментальна, печаль в высшей мере печальна, сухость суха, влажность влажна — и так далее. Если сюжет закручен, то невероятно туго, если уж отпущены вожжи, то отпущены.
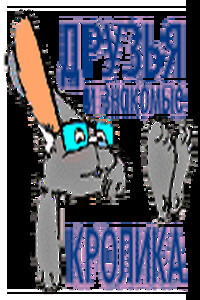
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Байтов родился в 1951 году в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения. Автор книг «Равновесия разногласий» (1990), «Прошлое в умозрениях и документах» (1998), «Времена года» (2001). В книге «Что касается» собраны стихи 90-х годов и начала 2000-х.
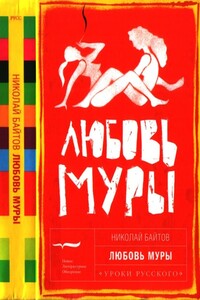
Роман в письмах о запретной любви двух женщин на фоне одного из самых мрачных и трагических периодов в истории России — 1930–1940-х годов. Повествование наполнено яркими живыми подробностями советского быта времен расцвета сталинского социализма. Вся эта странная история началась в Крыму, в одном из санаториев курортного местечка Мисхор, где встретились киевлянка Мура и москвичка Ксюша…В книге сохранены некоторые особенности авторской орфографии и пунктуации.Николай Байтов (р. 1951) окончил Московский институт электронного машиностроения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стихотворение Игоря Шкляревского «Воспоминание о славгородской пыли», которым открывается февральский номер «Знамени», — сценка из провинциальной жизни, выхваченная зорким глазом поэта.Подборка стихов уроженца Петербурга Владимира Гандельсмана начинается «Блокадной балладой».Поэт Олег Дозморов, живущий ныне в Лондоне, в иноязычной среде, видимо, не случайно дал стихам говорящее название: «Казнь звуколюба».С подборкой стихов «Шуршание искр» выступает Николай Байтов, поэт и прозаик, лауреат стипендии Иосифа Бродского.Стихи Дмитрия Веденяпина «Зал „Стравинский“» насыщены музыкой, полнотой жизни.
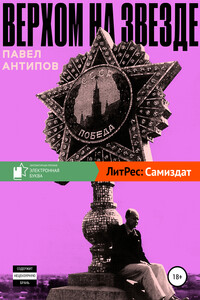
Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
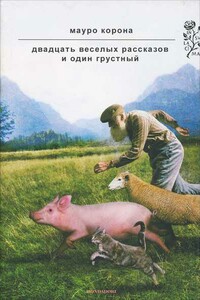
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
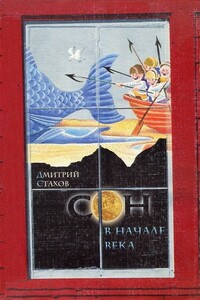
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
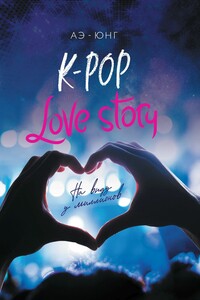
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
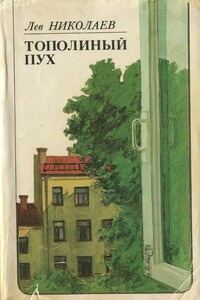
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.
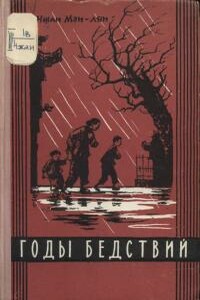
Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.
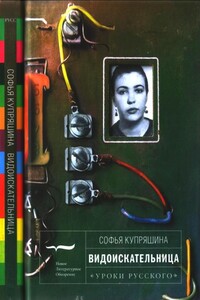
Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Рожденная на выжженных берегах Мертвого моря, эта книга застает читателя врасплох. Она ошеломляюще искренна: рядом с колючей проволокой военной базы, эвкалиптовыми рощицами, деревьями — лимона и апельсина — через край льется жизнь невероятной силы. Так рассказы Каринэ Арутюновой возвращают миру его «истинный цвет, вкус и запах». Автору удалось в хаотическом, оглушающем шуме жизни поймать чистую и сильную ноту ее подлинности — например, в тяжелом пыльном томе с золотым тиснением на обложке, из которого избранные дети узнают о предназначении избранной красной коровы.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.
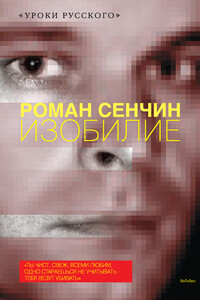
Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.