Зрелища - [22]
— Не каркайте, — сказала Лариса Петровна.
— Да и ради чего? Нет, завтра же иду сознаваться. А вы — пойдете со мной? Я бы и один пошел, да не знаю, в чем сознаваться.
— Сережа, вы зануда. Ничего с вами не случится. Сказано же: рек-визит.
— Вы знаете, у меня такое чувство, будто раньше я хорошо жил. Это, конечно, вздор, но все же отчасти… Еще два месяца назад все было так мирно, без нелепых поездок, нелепых заказов, а я, дурак, не ценил. Нет, право! Ну зачем ему понадобилось затаскивать меня к себе? Почему именно меня?
Лариса Петровна вдруг оживилась, повернулась к нему от окна и переспросила:
— Зачем? О, я сама недавно об этом подумала — почему именно вас? И знаете, кажется, я поняла. Да-да, это не случайно, у него тут свой расчет.
— Какой же?
— Как бы это сказать… Ему нужен кто-то, кто-нибудь один…Впрочем, нет. Этого уж точно вам говорить нельзя. У вас есть одно свойство, некое, я бы сказала, внутреннее чувство, довольно редкое… Ах, нет! нельзя, нельзя.
— Опять нельзя?
— Да, потому что все разрушится. Разве вы не замечали? У этих чувств, почти у всех, преглупая особенность — они как-то не выживают под названием.
— А если не вслух? Собственные-то чувства вы как-нибудь называете для себя? Например, к Герману?
— Ох, только вы не нагличайте. Наглость вам дается с трудом — я же вижу.
— Да я не проболтаюсь, не бойтесь.
— Не в этом дело. Просто словами получается не то. Какие-то обрубки. Интерес? Сочувствие? Любопытство? Зависть? Нет, не то. Даже если записать через черточку, и то не выразить.
— Зато к Всеволоду, наверное, можно одним словом — ненависть, да? Только за что?
— И снова неверно. Если это и ненависть, то не к нему, а к тому, что он вечно старается доказать. О, вы еще его не знаете! Так, в компании он бывает довольно мил, хотя вообще-то всех почти презирает. Нет, снова не так. Ничего он не доказывает и никого не презирает, а просто его хлебом не корми, а дай кого-нибудь очаровать Да-да, не смейтесь. Не глядите, что он такой запущенный, — это стиль. Если б можно было, он бы и чаровал таким собою, какой он есть. Какой в пьесе: сентиментальный, романтичный, даже слащавый. Но это в жизни ни на кого не действует. «Ах так, — говорит он, озлобясь. — Ну так я вас по-другому возьму». И ведь берет — вот что возмутительно. Грубо, дешево и просто. Я, скорее, тех ненавижу, кто ему поддается. Ах, какой Салевич! Как я ему благодарна, что хоть на нем этот лысый споткнулся.
— У вас не ненависть к нему, а просто ревность. Ревность одного профессионала к другому. Потому что ведь и вы любите чары напускать на всех вокруг.
— Возможно. Впрочем, не о том речь. С чего мы начали? А, что всякое чувство — это нечто неназываемое. И я сейчас придумала, что надо не говорить «я чувствую к нему то-то, а к нему — то-то», — получается вздор, — нет, у чувства должны быть имена собственные. Герман. Всеволод.
— Чувство Рудаков?
— Нет, здесь пусто — называть нечего. А вот чувство Салевич — это да. Или Сережа. Кстати… (Ну-ка, отвернитесь к окну. Нет-нет, не оглядывайтесь.) Чувство Сережа мне ужасно нравится. — Она вдруг протянула руку и погладила его по щеке.
Этот жест и неожиданная нежность, прорвавшаяся в ее голосе, так поразили Сережу, что он, вышибленный разом из прежнего шутливого тона, уставился, не говоря ни слова, на ее покрасневшее и улыбающееся лицо, но она снова протянула руку и толкнула его подбородок — к окну, к окну!
Там, за окном, медленно обгоняя, прижимался почти вплотную пустой троллейбус, внутри него ребенок на коленях матери выпускал и снова втягивал ленту билетов из красной кассы. Двое подростков, сдвинув головы, читали один журнал. Опять блаженное ощущение минуты, минуты, отрезанной от предыдущих, захватило Сережу, второй раз за сегодняшний вечер, это было ему так внове, так удивительно — уплывающий троллейбус за окном, след ее пальцев на щеке, в своей руке ломота от чемодана, еще два-три простых ощущения, а где же остальное? Только что были какие-то вопросы, беспокойство, привычные хлопоты души по сочинению будущего и приукрашиванию прошлого, и вдруг соединявшее их «сейчас», эта ничтожная щелка, этот узенький Босфбрчик, годящийся лишь на то, чтобы попадать из одного в другое, вырос до таких размеров, заслонил прежние горизонты.
Лариса Петровна молчала, ему тоже не говорилось. Хотелось продлить это незнакомое ощущение подольше, примериться к нему, как к новому жилью. Он все, конечно, понимал, четко различал трамвайные звуки, визг колеса на повороте, шипение дверей, он видел ясно (не ослеп же!), что вместо троллейбуса сбоку пристроился уже самосвал с углем, а потом другой самосвал, с битым щебнем, но, исчезнув, все эти ощущения не оставляли по себе никакого следа в памяти. Он также смутно помнил, что они еще раз выходили из трамвая и что в последнем месте им, кажется, ничего не дали, но где это было, что за дом или фабрика, он тут же и с удовольствием позабыл. Вот, наконец, и их Дом культуры, широкая дверь, вахтер-контролер, вестибюль, плакаты на стенах — разрезанные вагоны и в каждом черный человечек сидит для масштаба, вот лестница, портреты, пальмы, их танцкласс, вот довольный Салевич идет им навстречу…

Когда государство направляет всю свою мощь на уничтожение лояльных подданных — кого, в первую очередь, избирает оно в качестве жертв? История расскажет нам, что Сулла уничтожал политических противников, Нерон бросал зверям христиан, инквизиция сжигала ведьм и еретиков, якобинцы гильотинировали аристократов, турки рубили армян, нацисты гнали в газовые камеры евреев. Игорь Ефимов, внимательно исследовав эти исторические катаклизмы и сосредоточив особое внимание на массовом терроре в сталинской России, маоистском Китае, коммунистической Камбодже, приходит к выводу, что во всех этих катастрофах мы имеем дело с извержением на поверхность вечно тлеющей, иррациональной ненависти менее одаренного к более одаренному.
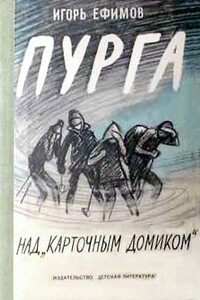
Приключенческая повесть о школьниках, оказавшихся в пургу в «Карточном домике» — специальной лаборатории в тот момент, когда проводящийся эксперимент вышел из-под контроля.О смелости, о высоком долге, о дружбе и помощи людей друг другу говорится в книге.

Умение Игоря Ефимова сплетать лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса. Опубликовано в журнале «Звезда» 2000, № 1. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда. Опубликовано в журнале «Дружба Народов» 2000, № 2.
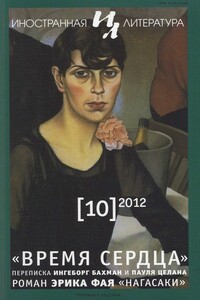
В рубрике «Документальная проза» — отрывки из биографической книги Игоря Ефимова «Бермудский треугольник любви» — об американском писателе Джоне Чивере (1912–1982). Попытка нового осмысления столь неоднозначной личности этого автора — разумеется, в связи с его творчеством. При этом читателю предлагается взглянуть на жизнь писателя с разных точек зрения: по форме книга — своеобразный диалог о Чивере, где два голоса, Тенор и Бас дополняют друг друга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе первого романа лежит неожиданный вопрос: что же это за мир, где могильщик кончает с собой? Читатель следует за молодым рассказчиком, который хранит страшную тайну португальских колониальных войн в Африке. Молодой человек живет в португальской глубинке, такой же как везде, но теперь он может общаться с остальным миром через интернет. И он отправляется в очень личное, жестокое и комическое путешествие по невероятной с точки зрения статистики и психологии загадке Европы: уровню самоубийств в крупнейшем южном регионе Португалии, Алентежу.

Роман греческого писателя Андреаса Франгяса написан в 1962 году. В нем рассказывается о поколении борцов «Сопротивления» в послевоенный период Греции. Поражение подорвало их надежду на новую справедливую жизнь в близком будущем. В обстановке окружающей их враждебности они мучительно пытаются найти самих себя, внять голосу своей совести и следовать в жизни своим прежним идеалам.
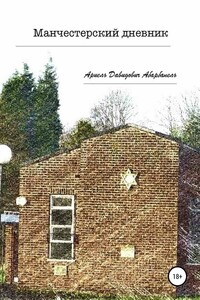
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.
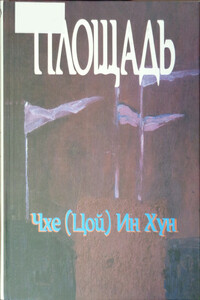
Роман «Площадь» выдающегося южнокорейского писателя посвящен драматическому периоду в корейской истории. Герои романа участвует в событиях, углубляющих разделение родины, осознает трагичность своего положения, выбирает третий путь. Но это не становится выходом из духовного тупика. Первое издание на русском языке.
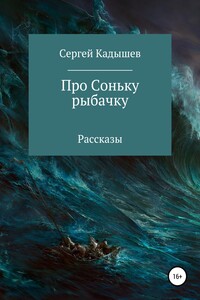
О чем моя книга? О жизни, о рыбалке, немного о приключениях, о дорогах, которых нет у вас, которые я проехал за рулем сам, о друзьях-товарищах, о пережитых когда-то острых приключениях, когда проходил по лезвию, про то, что есть у многих в жизни – у меня это было иногда очень и очень острым, на грани фола. Книга скорее к приключениям относится, хотя, я думаю, и к прозе; наверное, будет и о чем поразмышлять, кто-то, может, и поспорит; я писал так, как чувствую жизнь сам, кроме меня ее ни прожить, ни осмыслить никто не сможет так, как я.