Зрелища - [23]
И тут все кончается.
Прыгают на место прошлое и будущее, вопросы и беспокойство, и мерзкий самообращенный взгляд ухмыляется на очередные гадости — как пыжится изо всех сил, изображает стройность под тяжелым чемоданом, как дышит с нарочитой ровностью, как губы кривятся многозначительно, все-знайски. Он пытается еще отмахнуться, ищет глазами Ларису Петровну, но нет… Вот она рядом стоит, а уже не с ним, уже со всеми — для всех говорит, для всех волосы расчесывает, перебрасывает их, как положено, на одну сторону, и не спрятаться ему за нее, не вернуть то, что было. Снова он один, снова с самим собой, с постылым.
— Гляди-ка, трубки достали! — восхищается Салевич. — Ах, молодцы, ах, пройдохи. — И тащит все в заднюю комнату — под ключ.
8
До сих пор Сережины отношения с женщинами носили в его глазах характер чего-то сугубо подготовительного — не главного. Пока он был еще в школе и жадно вбирал в себя все, что было про «это», про «нее», пока его мозг без специального приказа выдергивал нужные сведения из книг и анекдотов, из картинок и песен, из анатомии, ботаники, географии и зоологии, из подслушанного, подсмотренного, угаданного и черт его знает, откуда еще, откуда мы все это узнаем, пока эти важнейшие сведения и знания накапливались в нем концентрическими кругами вокруг белого пятнышка в середине, ему казалось, что все его терзания спрятаны там, в этом крохотном пятнышке последней неизвестности, вернее, неизведанности, и, значит, должны иметь конец, казалось, что стоит победить в себе этот последний ужас, это последнее незнание, и наступит наконец жизнь. Да-да, то все было только ожидание, а тогда-то начнется сама жизнь. Но вот летом он наконец сомкнул свои круги, испытал все до конца с одной закройщицей из их ателье, он чувствовал себя опытнее и смелее самых отчаянных приятелей, а новая жизнь и конец терзаний все не наступали. Наоборот, он испытывал растерянность и будто не знал, что ему делать со всем своим новым опытом и смелостью. Вот он выходит рано утром из дома в солнечный и ветреный город, еще горячий внутри одежды, затянутый ремнями и пуговицами, оснащенный всем, чтоб не пропасть, то есть немного денег, телефоны друзей, сигареты и спички, вот проходит из улицы в улицу в гуще толпы, с облачком жаркого дыхания вокруг лица, поглядывает жадно по сторонам, замирает, как на охоте, и снова бежит дальше — все дальше вперед.
Вот эти женщины, которые идут мимо него, садятся рядом в трамвае, прижимаются, пахнут, потом встают и уходят, про которых он знает теперь все, все счастье, что они содержат в себе и могут ему дать, если только захотят — но как же сделать так, чтобы они захотели? Чем привлечь их к себе, кроме голоса, лица и одежды, какие не лучше, чем у сотен других, — неужели словами? Неужели они станут верить его словам и поступкам теперь, когда он все знает и они знают, что он знает, и вся его игра и лице-мерство видны им издалека, как на ладони? Неужели еще есть такие, которые способны поверить словам? А если и есть, ведь они не для него уже, он их презирает заранее за такую глупость, за доверие к себе, а раз презирает, то и не хочет от них ничего — вот ведь какой перехлест. Не может он с теми, кого презирает, несчастный он человек, а на презрение ох как мы скоры! Но и с теми, с добрыми, которым никому себя не жалко, которые все про него знают и не ждут ничего, — с теми тоже ему не спастись, они никого еще не спасали, а только давали отсрочку — на день ли, на неделю — какая разница. Так что же ему нужно тогда, чего он хочет от них в своей изощренности?
Единственности — вот чего.
Пусть были до него другие, пусть будут после него, но пока он с ней, пусть ей никто не нужен, хотя бы в этот день, хотя бы в этот вечер — вот как он хочет и только так. Он носился с нелепой и дерзостной мечтой добиться сначала единственности и неповторимости себя для женщины, ничего ей не обещая, ни за какие коврижки, а уж потом и не важно, стать или не стать ее мужем — как сам захочет. Мысль о том, чтобы получить это всего лишь за штамп в паспорте, казалась ему по молодости невыносимой. Поэтому он с напряженным любопытством присматривался к своим новым знакомым, к той непревычной для него свободе отношений, при которой на женитьбу не смотрели как на что-то более важное, чем, скажем, смена службы или отпуск на юге. («Как отдохнули?» — «Прекрасно!» — «А как медовый месяц?» — «Только держись».)
Из всех, кто обходился без свадеб, те, что отыскивали друг друга при помощи денег (он знал и таких), занимали его меньше всего. К ним он относился без осуждения, но с высокомерием и пренебрежительностью, мол, это что, этак всякий может, хотя сам-то он как раз и не мог, и не только потому, что денег не было. Те, кто звал его с собой, видели его насквозь и говорили про него сочувственно — что с него взять, у него душа не принимает, тут уж ничего не поделаешь. Он же уходил на весь вечер, один бродил, высматривая, по улицам, либо на репетициях таращился из угла, либо приходил в гости и тоже садился в угол, откуда виднее, и ко всему виденному и слышанному он ухитрялся присочинять втрое против того, что оказывалось на самом деле, он был, что называется, талантливый зритель, зритель с воображением.

Когда государство направляет всю свою мощь на уничтожение лояльных подданных — кого, в первую очередь, избирает оно в качестве жертв? История расскажет нам, что Сулла уничтожал политических противников, Нерон бросал зверям христиан, инквизиция сжигала ведьм и еретиков, якобинцы гильотинировали аристократов, турки рубили армян, нацисты гнали в газовые камеры евреев. Игорь Ефимов, внимательно исследовав эти исторические катаклизмы и сосредоточив особое внимание на массовом терроре в сталинской России, маоистском Китае, коммунистической Камбодже, приходит к выводу, что во всех этих катастрофах мы имеем дело с извержением на поверхность вечно тлеющей, иррациональной ненависти менее одаренного к более одаренному.
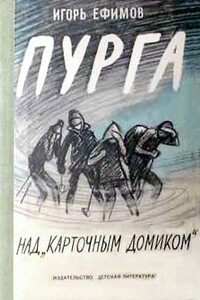
Приключенческая повесть о школьниках, оказавшихся в пургу в «Карточном домике» — специальной лаборатории в тот момент, когда проводящийся эксперимент вышел из-под контроля.О смелости, о высоком долге, о дружбе и помощи людей друг другу говорится в книге.

Умение Игоря Ефимова сплетать лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса. Опубликовано в журнале «Звезда» 2000, № 1. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда. Опубликовано в журнале «Дружба Народов» 2000, № 2.
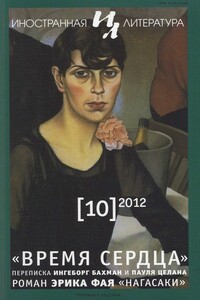
В рубрике «Документальная проза» — отрывки из биографической книги Игоря Ефимова «Бермудский треугольник любви» — об американском писателе Джоне Чивере (1912–1982). Попытка нового осмысления столь неоднозначной личности этого автора — разумеется, в связи с его творчеством. При этом читателю предлагается взглянуть на жизнь писателя с разных точек зрения: по форме книга — своеобразный диалог о Чивере, где два голоса, Тенор и Бас дополняют друг друга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе первого романа лежит неожиданный вопрос: что же это за мир, где могильщик кончает с собой? Читатель следует за молодым рассказчиком, который хранит страшную тайну португальских колониальных войн в Африке. Молодой человек живет в португальской глубинке, такой же как везде, но теперь он может общаться с остальным миром через интернет. И он отправляется в очень личное, жестокое и комическое путешествие по невероятной с точки зрения статистики и психологии загадке Европы: уровню самоубийств в крупнейшем южном регионе Португалии, Алентежу.

Роман греческого писателя Андреаса Франгяса написан в 1962 году. В нем рассказывается о поколении борцов «Сопротивления» в послевоенный период Греции. Поражение подорвало их надежду на новую справедливую жизнь в близком будущем. В обстановке окружающей их враждебности они мучительно пытаются найти самих себя, внять голосу своей совести и следовать в жизни своим прежним идеалам.
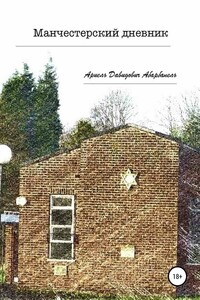
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.
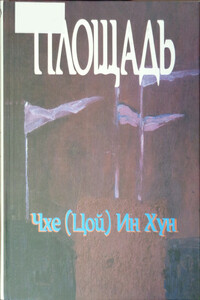
Роман «Площадь» выдающегося южнокорейского писателя посвящен драматическому периоду в корейской истории. Герои романа участвует в событиях, углубляющих разделение родины, осознает трагичность своего положения, выбирает третий путь. Но это не становится выходом из духовного тупика. Первое издание на русском языке.
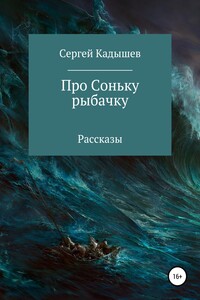
О чем моя книга? О жизни, о рыбалке, немного о приключениях, о дорогах, которых нет у вас, которые я проехал за рулем сам, о друзьях-товарищах, о пережитых когда-то острых приключениях, когда проходил по лезвию, про то, что есть у многих в жизни – у меня это было иногда очень и очень острым, на грани фола. Книга скорее к приключениям относится, хотя, я думаю, и к прозе; наверное, будет и о чем поразмышлять, кто-то, может, и поспорит; я писал так, как чувствую жизнь сам, кроме меня ее ни прожить, ни осмыслить никто не сможет так, как я.