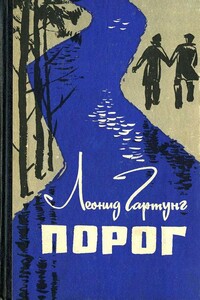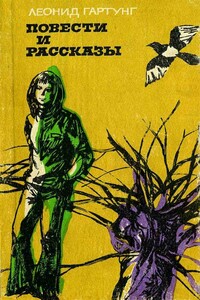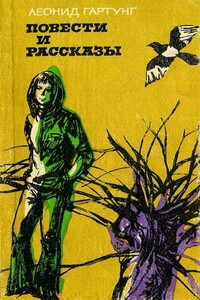Беру руку мальчика. Она безжизненно виснет. «Похоже на менингит, — думаю я, — но какой? Елагин болен — значит, возможно, туберкулезный». А Погрызова решила, что грипп. «Вот, — размышляю я, неприязненно глядя на запавшие щеки Елагина, — стареющий, больной мужчина женился на этой тоненькой девочке, а расплачиваться приходится Ване».
Посылаю Елагина с запиской к Погрызовой.
— Идите сейчас. Пусть принесет все, что нужно для инъекции стрептомицина.
— Как звать вас? — спрашиваю женщину.
— Светланой. Что с ним? Скажите.
— Не знаю пока.
Приходит Ольга Никандровна. Приносит флакончики стрептомицина. Сделал пункцию спинномозговой жидкости. Жидкость прозрачна. Значит, менингит туберкулезный. Ввожу стрептомицин. Улучшения нет. Всю ночь не отхожу от Вани. Мальчик прерывисто дышит. Изредка ноги его сводит судорога. Тогда он протяжно стонет и скрипит зубами. Светлана подает мне мокрые полотенца. Я прикладываю их к пылающему лбу мальчика. Потом посылаю на молочный завод за льдом.
Елагин уехал в Пихтовое за стрептомицином.
Проходит еще один страшный день. Ваня — без сознания. Значит, стрептомицин уже не поможет. Время течет. Елагин не возвращается. На улице становится прохладно, мы открываем окно. В восьмом часу прогоняют стадо.
Темнеет. Светлана мечется по комнате, будто боясь хоть на минутку присесть.
— Что могло случиться? Почему их нет?
Она думает, если вернется муж, значит, все будет хорошо — был бы стрептомицин. Я не разуверяю ее. Иногда она подходит к кроватке, склоняется к ребенку.
— Ванечка, что с тобой? — Мы пытаемся напоить мальчика, насильно разжимая зубы, вливаем в рот воду, но она вытекает на подушку.
— Ванечка, что с тобой?
В окно смотрят звезды. «Жизнь идет, словно ничего не случилось, а в кроватке умирает мальчик. Никогда больше он не увидит звезды, не станет взрослым», — думаю я. Где-то поют девичьи голоса.
В половине первого Светлана выходит посмотреть, не едет ли муж. В это время умер Ваня. Я выхожу позвать ее.
Светлана стоит на крыльце, подняв лицо к небу, крестится и шепчет:
— Оставь, сохрани последнее счастье мое.
Мне хочется закричать: «Не надо, Светлана! Не надо!» Меня пугают ее молитвы, как приступ безумия.
— Света, — зову я тихо. — Идите в дом.
Услышав мой голос, она в ужасе вскрикивает, кусает пальцы.
Ваня лежит на подушках. Веки его полуприкрыты, лоб обнимает ненужная уже влажная тряпочка, ворот белой рубашечки расстегнут, бледные руки спокойно лежат поверх легкого светло-зеленого одеяла.
Все не нужно теперь: и шприц, который лежит на столе в блестящем никелированном футляре, и серые куски льда, медленно тающие в глубокой тарелке. И я не нужен. Я разбит. Страшная усталость сковывает меня.
Светлана не плачет.
— Как же это? — тупо спрашивает она и широко раскрытыми глазами смотрит на сына.
Подхожу к ней. На полу хрустят осколки разбитого термометра. Кладу руку на ее плечо, выговариваю через силу:
— Надо пережить. Вы молоды. У вас еще будут дети.
Она, как обожженная, отшатывается от меня.
— Дети? Не хочу. Никого мне не нужно.
Сухие глаза ее смотрят на меня с ненавистью.
— Что же вы, врачи… ничего не умеете?
Потом в комнате появляются всхлипывающие шепчущие старухи, они крестятся, причитают певучими деревенскими голосами. Светлана тоже плачет вместе с ними. Теперь ужас и несправедливость смерти отступили куда-то. Мелкими хлопотами люди стараются заслонить большое непоправимое горе: кто-то тянет от головы к ногам ребенка клеенчатую сантиметровую ленту, кто-то завесил зеркало и положил на веки мальчика черные медные монеты.
В комнате становится тесно и жарко. Никто не оборачивается, когда я направляюсь к двери. На крыльце неожиданно наталкиваюсь на Валетова. Он без сюртука, без шляпы. Настороженно смотрит через открытую дверь в комнату. Увидев меня, поспешно отстраняется. Как в тумане скользит мимоходом мысль: «Зачем он здесь? Что ему до Светланы? И почему не идет в дом?»
На улице ударяют мне в лицо сверкающие лучи света. Рядом со мной резко тормозит автомашина. Скрипнула дверца. На землю соскакивает Елагин.
— Мотор забарахлил, — начинает он бойко. — Около моста сидели часа два.
Протягивает мне аптечную коробку. Я отстраняю его руку.
— Теперь не надо.
— Как?
— Вани нет уже.
Мотор машины заглох. На улице ни звука. Слышится только дыхание Елагина — тяжелое, с присвистом.
Он уходит. Я стою один в темноте и плачу.
На следующий день Елагин, пошатываясь, входит ко мне в кабинет. За эту ночь он постарел, осунулся. Выкладывает мне на стол пузырьки со стрептомицином.
— Возьмите, может пригодится кому-нибудь.
Я благодарю, напоминаю ему:
— Вы заходите.
— Зачем?
— Время от времени вам надо проверяться.
— Э, проверяться, — кривит он губы. — Я знаю, моя песенка спета. Год-два — и крышка.
Сутулясь, нетвердо направляется прочь. У самой двери останавливается.
— А вы как думаете?
— Если вести правильный образ жизни, не простужаться…
— Знаю, что скажете, — не хочет он слушать меня. — Все для успокоения.
Когда он уходит, говорю Погрызовой:
— Ольга Никандровна! Как же так получилось? Поставили диагноз — грипп и ни разу потом не зашли, не посмотрели ребенка. Ведь если бы мы захватили болезнь вовремя…