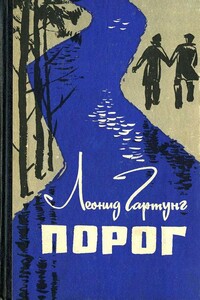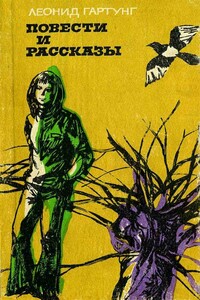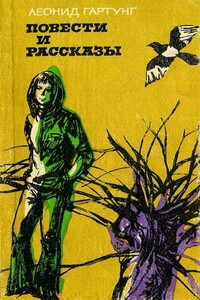С высокого берега реки открываются ровные выкошенные луга, покрытые зеленеющей отавой. С юга угрожающе подымается низкая серая туча. Сырая, твердо утоптанная тропинка извивается между осиновых колков, где в зелени трепещут и горят первые красно-малиновые листья.
Иду рядом с Надей, знаю, что она уедет, и не хочу верить, что это случится. Почему она мне кажется такой близкой, почти родной? Неужели это любовь?
Серая туча, которую мы видели еще из села, вырастает, надвигается на солнце, заслоняет его и глухо грохочет.
— Пойдемте быстрее, — торопит Надя. — Здесь стан недалеко.
Ветер зашумел листьями кустарников, наклоняет их. Остро сверкнула молния, и тотчас же оглушающе затрещал гром.
Мы бежим по лугу, а вокруг уже стучат тяжелые капли дождя. Ветер обжимает спереди тонкое платье девушки, мелькают ее обнаженные колени. Она приостанавливается, одергивает подол и кричит мне сквозь шум ветра и плеск надвигающегося дождя:
— Бегите, бегите!
Едва успеваем укрыться в полевой избушке, как хлынул ливень, закрыл от нас весь мир плотной мутной стеной.
В маленькое оконце ветер швыряет крупные капли дождя. На сыром земляном полу ползает мокрая пчела. Мы сидим на низких нарах, покрытых толстым слоем душистого, свежего сена.
Надя еще улыбается, возбужденная быстрым движением, глубоко дышит. На лбу ее прилипшая прядь волос. На розовой мочке уха темнеет маленькая вмятина от серьги, шею охватило дешевое ожерелье — оно красное, как спелый боярышник. Ясно и близко ощущаю я парной запах чистого девичьего тела, влажного платья, согретого ее теплом. Неодолимо хочется обнять девушку, прильнуть лицом к ее смуглой шее, почувствовать губами ее губы.
— Надя, — окликаю я срывающимся голосом.
Она оборачивается. На лице ее уже нет улыбки.
— А сено у нас еще в рядах, — говорит она встревоженно.
— Что? — силюсь я понять, о чем она.
— Метать сено мы сегодня собирались.
«Она не чувствует того, что чувствую я», — пронзает меня холодная, трезвая мысль.
Мы сидим, слушаем дождь, и, может быть, она думает о том же, о чем и я: «Что нам принесет разлука?»
Затихает гроза. Падают одиночные капли дождя. Мы выходим из избушки. Солнце освободилось из туч и освещает вымытую траву, деревья, блестящую тропинку и смоченные дождем, потемневшие стога сена. Ветер осыпает с кустарников холодные брызги.
Надя сняла белые тапочки, ступает розовыми босыми ногами по мокрой траве и говорит:
— Окончу институт, приеду работать вместе с вами. Возьмете?
— Конечно, — обещаю я. — К тому времени у нас будет новая, хорошо оборудованная больница. Я приеду за тобой на станцию на больничной легковой машине. Приеду с цветами. С огромным букетом. Ты выйдешь из вагона в изящном плаще, вслед за тобою появится молодой человек с красивыми усиками, и ты скажешь: «Виктор Петрович, это мой муж. Познакомьтесь».
— Этого не будет, — возражает Надя без улыбки.
— Как знать!
— Твердо уверена.
— Я буду вести автомобиль, а ты скажешь мужу: «Представь себе, в этой глуши начиналась моя жизнь».
Надя останавливается, смотрит на меня с упреком.
— Зачем вы так?
Сам не знаю почему, но мне ужасно хочется подразнить ее. А может быть, я дразню самого себя? Продолжаю фантазировать:
— Он спросит тебя обо мне: «А это что за туземец?» Ты ответишь: «Здешний эскулап». Он печально покачает головой: «Пиджачок на нем сшит еще по моде пятидесятых годов». Ты заступишься за меня: «Ну что он видел? Ему кажется, что он одет прилично».
— Даже не смешно, — обидчиво произносит Надя.
Подходим к Светлому. Надя приостанавливается.
— Помните?
— Как же!
— Какая я в ту ночь была глупая! А может быть, и не глупая. Сама не знаю. Мне представлялось, что должно случиться что-то очень-очень хорошее, совсем небывалое, но ничего не случилось.
«Милая, любимая», — думаю я и чувствую, как сердце тяжело стучит от волнения.
— Надя, — говорю я. — Я … привык к тебе. Мне будет не хватать тебя.
— Привыкли?
Наклоняется, срывает цветок дикой гвоздики, обдергивает его лепестки, один за другим, бросает под ноги.
Только что вернулся из Лопатино. Не успеваю снять сырой от дождя пиджак, как за мной приходят.
— Виктор Петрович, скорее! У Вани ручки отнялись, — торопит меня маленькая, похожая на школьницу женщина, тоненькая и чистая, как птичка. В карих глазах ее бьется испуг, тонкие губы подергивает судорога подступающих рыданий.
Выходим на улицу. Я спешу, она, не поспевая за мной, задыхаясь, говорит:
— Мы уж не останемся перед вами в долгу. Муж в сельпо работает.
— Постыдитесь! — обрываю я ее.
У ворот нас встречает мужчина в коричневом выцветшем пиджаке.
— Думал, уж не придете, — облегченно вздыхает он.
Это Елагин. Рядом с женой он выглядит совсем старым. Кожа на лице его загрубевшая, морщинистая, вся в крупных угрях.
В тесной комнате окна завешены одеялами. В желтых сумерках белеет тюлевый полог детской кроватки.
— Снимите одеяла, — прошу я.
Полузакрыв глаза и раскинувшись на перинке, лежит мальчик лет двух. Лицо его горит, головка закинута назад.
— До меня лекарства давали?
— Нет, — отвечает Елагин глухо и кашляет. — На прошлой неделе Ольга Никандровна заходила, признала грипп. А больше не была.