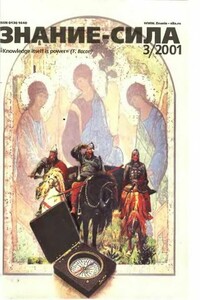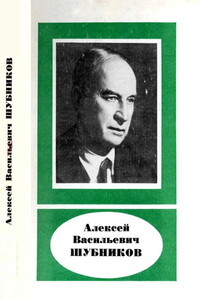Вильгельм Хозенфельд вел дневники с 1917 года, педантично занося в них все, что происходило вокруг. Вот некоторые записи, сделанные им в первый месяц той роковой войны. Первого сентября он пишет сыну Хельмуту: «Что ж, жребий брошен. Отвратительное напряжение, вызванное неизвестностью, разрешилось. Мы знаем, зачем мы здесь. На востоке начинается буря. Требования фюрера были приемлемы, умеренны и могли бы сохранить мир».
Шестнадцатого сентября он пишет жене Аннемари из Пабьянице, небольшого местечка под Лодзью. Он выехал туда в качестве квартирьера и отыскал уютный загородный домик с верандой: «Я на прекрасном биваке; в моем распоряжении есть ванная комната; я ем за сервированным столом. Не чувствую ни в чем недостатка. Вот только Тебя, моя милая, добрая, сладкая Аннеми, не хватает здесь, Тебя и милых детей». Впрочем, не всем так же хорошо, как ему. Он записывает: «Евреи в соседнем местечке заняты тем, что засыпают окопы».
Тридцатого сентября — война длится уже месяц — он подводит итоги: «Немцы здесь хозяева. Поляки теперь пресмыкаются перед ними. Сопротивление поляков сломлено подчистую; вопрос только в том, как накормить многочисленных пленных».
Пианист Владислав Шпильман, 1946 год
Вопрос возникает не случайно. Хозенфельд назначен комендантом лагеря для военнопленных. «Ночь насылает в лагерь все новые толпы людей». Неминуемая неразбериха сопутствует организации каждого подобного лагеря. Неразбериха, граничащая с преступлением, вырождающаяся в одно сплошное преступление. Сотни поляков «арестовывают и уводят» — так описывает он будничную жизнь нового мира. Пока еще прекрасного, но уже непонятного мира, мира, от которого исходит некое веяние ужаса. «Можно представить себе, как с ними (арестованными. — А.В.) обращаются, ведь вершится возмездие».
И как же он счастлив, что снова не комендант, а «тыловая крыса», что может не ездить по выгоревшим городкам, не иметь дело с тысячами пленных, не видеть, куда уводят поляков и куда исчезают евреи, а жить в Варшаве, слушать по радио Шуберта, ходить в театр, а то и, выбравшись за город, охотиться на лис, а еще писать письма и вести дневник. Товарищи, сообщает он жене, «удивляются тому, что я столько пишу».
А потомки, листая его записи, удивляются тому, как соседствуют разделенные лишь месяцами жизни подобные строки:
«Гитлер редко когда произносил такую убедительную речь, как 9 ноября. Это все-таки сказочный человек».
«Вы не можете даже представить себе, как там приходится жить людям («там» — это в гетто, где он бывает «в одном большом магазине», покупая мебель. — А.В.). Люди всюду ползают буквально как муравьи. А как они выглядят! Оборванные, исхудавшие. Ужас!»
Афиша концерта Владислава Шпильмана в варшавском гетто, 1942 год
Его дневники полны подобных противоречий. Он — слепой участник событий, вершащий волю времени, и он — свидетель, готовый судить свое время. Он — один из тех миллионов, в которых бьется пульс толпы, и он — один из тех одиночек, кто берется считать пульс толпы. Эта раздвоенность появилась в нем не сразу.
Любитель повозиться в саду, Хозенфельд не был в 1920-е годы ни интеллектуалом, ни политиком; он не интересовался ни дебатами в Рейхстаге, ни хроникой культурной жизни Веймарской республики. Куда важнее в его судьбе, что он был католиком. Религию он воспринимал на эмоциональном уровне, не пытаясь поверить ее разумом.
Он усвоил в христианстве его важнейшую доминанту — способность сострадать другому, а потому стать стопроцентным нацистом не мог. С каждым годом жизни в «Тысячелетнем рейхе» это все очевиднее. Жалость, сочувствие к другим людям побуждают его совершать неприличные для того времени поступки — помогать чужим, людям не нашего круга (общества, народа), даже спасать чужих, обреченных погибнуть вместе с их отжившей культурой.
С евреями у себя в Гессене он не сталкивался, и потому они были неинтересны ему; он упоминает в дневнике «здоровую расовую политику», но это скорее абстрактная формула, газетный штамп, который вертится на языке, а вот содержание этого штампа — расправы в гетто возмущают его. «Как это терпит Гитлер?» — поначалу задумывается он, ибо верит в военный гений нового «Наполеона», несущего «свободу, равенство, братство» всей Европе.
Однако поражение под Сталинградом быстро отрезвляет его; он хорошо помнит, как проиграли войну в восемнадцатом, и теперь любая неудача на фронте лишь питает его пессимизм. Но вся его оппозиция сводится к скепсису, раздражению, молчаливому недовольству «политикой верхов», но никак не к открытому протесту. Он — человек чувства, а не действия. Он ведет поистине созерцательную жизнь, превратившись из участника событий в их очевидца и хроникера. У него есть время читать книги, наблюдать, размышлять и записывать увиденное и обдуманное в дневнике и письмах.
Он подробно фиксирует, например, немецкие преступления в Польше. Слова «Треблинка» и «Аушвиц», о которых многие, как они клялись потом, не знали до конца войны, появились в его лексиконе уже летом 1942 года. Известия об этих лагерях смерти окончательно сделали его мизантропом, «потерянным человеком поколения гитлеровских победителей». Он риторически пишет: «В таком случае нет никакой чести быть немецким офицером, и зачем тогда во всем этом участвовать?» Но и поделать со всем этим тоже ничего нельзя. Остается лишь машинально фиксировать успехи вермахта и гордиться ими, будто победами любимой футбольной команды.