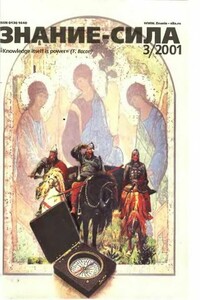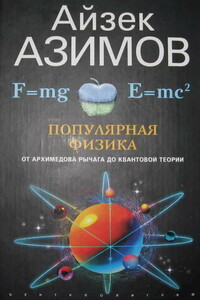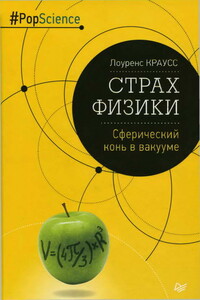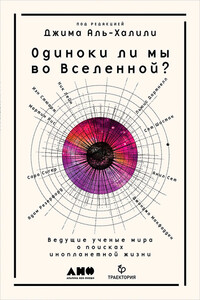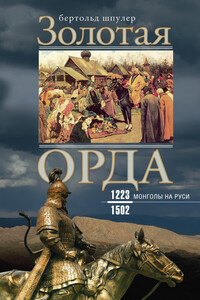1937 год. Двадцатилетие Советской власти отмечалось, как известно, не только митингами - в этот год волна террора достигла наивысшей отметки.
Может быть, поэтому на фотографии митинга в Москве его участники так напряженно и внимательно - но не сказать, чтобы радостно - слушают выступающих и анализ феномена ГУЛАГа закончились сразу после провалившейся попытки „суда над КПСС“, который замысливался сторонниками Б. Ельцина чем-то вроде „Нюрнбергского трибунала“, но обернулся жалким конфузом обвинителей, оказавшихся в принципе не готовыми связать массовые репрессии и террор с коренными особенностями советского общества как общества тоталитарного».
Использовать идеологемы, чтобы вывести наружу подковерную борьбу кремлевских кланов и тем самым добить противника, — практика, коммунистами вполне освоенная. Вряд ли начинавшие перестройку политики понимали, что она обрушит режим; скорее, они становились все более радикальными по ходу дела, стремясь удержаться на вершине волны, если нет возможности управлять ею. Вряд ли поддержавшая реформаторов часть политической номенклатуры делала сознательный выбор между двумя полярными социально-экономическими укладами и двумя противостоящими идеологиями. Похоже, их волновало только расширение своих прав владеть и пользоваться собственностью, ограниченных партийными правилами. Похоже также, их несло к реформам очередное падение цен на нефть, означавшее переход экономической стагнации в безнадежный и неуправляемый кризис.
«Не было заявлено ни достаточно ясной моральной, ни интеллектуальной позиции, с которой можно было бы судить о прошлом, — продолжает Л. Гудков. — Попытки продолжать дискуссии об ответственности коммунистов и номенклатуры за преступления прежнего времени были объявлены „новыми чистками“ и „охотой на ведьм“. На этом дело и закончилось».
Интеллектуальная и моральная позиция — это, скорее, дело не власти, которая могла бы только придать ей необходимый вес, это дело интеллигенции, которая всегда настаивала на своем статусе «учителя жизни». Похоже, с этой очень важной для судьбы страны и для своей собственной дальнейшей судьбы задачей она не справилась. Грустная шутка времен поздней перестройки: свобода слова есть, а слова нет — знаменовала не просто отсутствие конструктивных идей, которые могли бы покоиться только на серьезном анализе прошлого, но, что не менее важно, признание этого факта обществом.
Между тем память, чтобы сохраниться, должна отлиться в некую форму. «Травмирующие события вытесняются из коллективной памяти, если они не получают соответствующей коллективной оценки и не вписываются в структуру массового представления о себе», — пишет Л. Гудков. Коллективной оценке предшествуют как минимум два акта: выработка этой оценки и предъявление ее обществу инстанцией, обладающей достаточным авторитетом (или хотя бы достаточной силой, как оккупационные власти в послевоенной Германии, проводившие последовательную и жесткую денацификацию не только политики, но и сознания немцев), чтобы эта оценка действительно была принята.
Поскольку ничего этого так и не состоялось, через некоторое время принадлежность первого лица государства к тем самым органам уже никого не шокировала, а сам он оказался свободным от необходимости дистанцироваться от славного прошлого этих органов. Советскую историю продолжают переписывать, чтобы придать ей как можно более респектабельный и благостный, приятный для национального чувства вид.
Природа и внутренние механизмы тоталитарных режимов прошлого века вообще плохо изучены. Вдобавок в нашей стране какая-то особая неприязнь и подозрительность к такого рода исследованиям. Их почти не ведется, по пальцам пересчитать, да и то все на средства зарубежных фондов.
Подростки вовсе не собирались «учиться на опыте старших», когда затевали этот разговор, и чаше всего совсем не ожидали, что он их так заденет. В подлинной истории, не в безличных грамматических конструкциях официальной строго отмеренной скорби о «трагедии народа», о «жертвах незаконных репрессий», а в сугубо личном изложении самих исторических персонажей молодых людей прежде всего ждал ужас. Потому что как только начинается серьезный разговор, выплывают не столько гордость полетом Гагарина, сколько насилие и беспомощность, кровь и боль большевистского террора: когда в комнате допросов «все стены до уровня головы и пол были залиты кровью. Били арматурой и в корытах отмачивали...» (Иван Попов, Барнаул, Алтайский край. «Православие на Алтае в последней трети XX века. Испытание богоборческой властью»); когда по приказу начальника трудбатальона всех больных вынесли из бараков в лес, сложили на ветки, ушли работать, а вернувшись, живых не нашли (Ксения Любимова, г. Пермь, «История спец переселенцев в Ныробском районе»); когда из Средней Азии пригнали в Котлас партию поселенцев в легких халатах, заперли на ночь в бараке, до утра все и вымерзли, утром трупы свалили в огромный ров и землей засыпали (Людмила Пушкина, г. Котлас, Архангельская область. «Мои размышления при прочтении книги „Котлас — очерки истории“)...