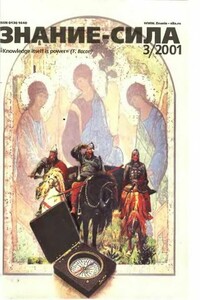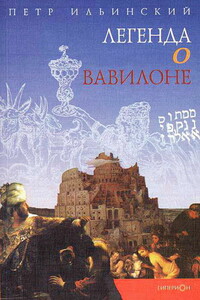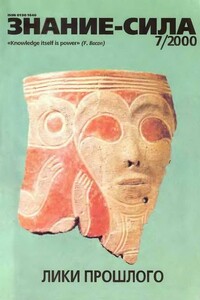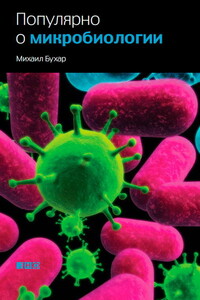По крупным печальным глазам я сразу узнала Рахманинова, по беззащитному озябшему виду — трогательного Велимира, трагический красавец в старинной солдатской шинели не мог быть никем, кроме Гаршина...
— Недурно,— подбодрил старец.
Жесткие черные морщины на вызывающе белом челе — Эдгар По, щегольской живописный берет принадлежал Вагнеру, а крошечная японская фрейлина — конечно же, сама... Леди японская проза, создательница «Гэндзи»...
— Выше всяких похвал!
Испытание продолжалось.
Надменный орлиный холодок, заплаканные глаза — это Бунин, взъерошенный старик с колючим пронзительным взглядом — Лесков, хрестоматийно расхристанный, в больничном халате — Мусоргский...
— За несколько дней до смерти... Кто же не знает его... Портрет Репина, вы бы еще Пушкина подсунули,— и тут я запнулась: следующий портрет мне напомнил иное...
Он напомнил, как в общественной литераторской дачке меня представили Юрию Осиповичу Домбровскому. Пасхальной недели подарок — встреча с автором «Хранителя древностей». На что битый, четырежды каторжник, этот чудак через какие-нибудь полчаса обнаружил свою полную неблагонадежность: чего только не осело в обыкновенном ящике его письменного стола! И среди прочего — запрещенная литература. Ни одной книжки Домбровский мне не дал, и я спросила: «Зачем же гусей дразнить? А если вас заложат?..» В ответ — лишь улыбка, многозначительная, что ли, которая потом оживляла фотографии его посмертных изданий. Й поза человека на допросе: вперед голова — само внимание.
— Ничего не знаю,— сказал Домбровский.— Вынул из почтового ящика. Кто-то подкинул.— И это все, чем мог защититься такой тертый калач, как Домбровский.
Тогда мне было ни к чему, а сейчас интересно, какие издания из запретных он выделял. Его симпатии выражала фотография, висевшая в комнате.
— Это мой бог,— сказал Домбровский.
— Вы были знакомы? — последовал вопрос в прошедшем траурном глаголе.
— Виделись однажды. Пили целую ночь.
И божество его снижалось до имени Василий свет Макарович, всем известный Шукшин.
Недурно придумано — и выпить с таким богом можно, и посидеть. Как я его понимаю! Ему хотелось Бога, а Бога не было, и Домбровский нашелся: и Бог соблюден, и свой брат не обижен. Домбровский таскал эту фотографию, как свою кошку Каську, повсюду, и я не знаю, воспоминание ли грело его на той пасхальной неделе, или он сам приноровился к нему, чтобы иметь личное господнее воскресение.
Вот эту-то фотографию Шукшина и предъявил мне старец.
— А где же сам «Хранитель древностей»? Я прошла у него маленький курс на «Факультете ненужных вещей».
Старец вперил в меня непонимающие глаза.
— А какое касательство...
— О-о-о, Мокей Авдеевич, это долгая песня, к ней еще нет нот.
«Касательство» же было прямое.
Несколько лет тому назад самая- самая наша инстанция, выше которой нет, удостоила меня... ну, конечно, запрета. Напечатать что-либо было невозможно. Грозная бумажка официально именовалась «Мораторий» — так громко инстанция палила из пушек по воробьям. И тогда некий поэт пристроил меня в Дом культуры, чтобы я художественно сводила концы с концами. Он совершил это доброе дело и от удивления на самого себя тут же скончался во цвете буйных лет, не успев дать содеянному обратный ход. Будучи при жизни человеком в высшей степени талантливо безалаберным, он, и устраиваясь на том свете, не изменил себе и для начала попал в чужую могилу. «Как? — спросит старец.— Возможно ли?» Я отвечу; «Если гарцуют у катафалка, то в жизни вообще нет ничего невозможного». И придется рассказать, что могила предназначалась для Юрия Осиповича, но родственники от нее отказались и так далее, и тому подобное... Лучше не задевать эту тему. Я достала из шкафа книжку, на которой детскими крупными буквами было написано: «ЛЕРЕ С ЛЮБОВЬЮ ДОМБРОВСКИЙ», и подала ее старцу, предупредив;
— Только потрогать.
— «Ретленд бэкон соутгемптон шекспир»,— прочитал старец.
— Да, это о Шекспире плюс Бэконе.
Затем из своих бумаг я извлекла листок. И его прочел старец: «Я, член Союза писателей с 1939 года, никогда никому не дававший рекомендаций, на сей раз...»
Старец возвратил мне книжку и листок, вздохнул и возобновил прерванное испытание на «пасьянсе».
Пылкого юношу я, бесспорно, видела впервые, а другой, посолиднее, кого-то напоминал, но я не брала на себя смелость рисковать чужим добрым именем.
— Веневитинов Дмитрий Владимирович,— ответил за меня старец, собирая «пасьянс» в колоду.— Хомяков Алексей Степанович, — посылая и второго подзащитного Марьи Юрьевны Барановской следом.
Еще и еще хотела вглядеться я в эти лица. Разве можно забыть страсти Марьи Юрьевны в Даниловом монастыре, перстень из раскопок Геркуланума, чудеса с Гоголем!.. Маэстро, старца...
Они так и стоят в моей памяти, друг против друга посредине фойе, а за ними — детские рисунки, развешанные по стенам. Еще минута, и они разойдутся. Останется пустой зал, где полгода назад высился катафалк и под музыку танго скользили пары. Кавалеры, обтянутые трико, дамы в длинных широких юбках. Шторы задернуты, никто не отражается в окнах. Не брезжит неоновая вывеска. Не видны исполинские буквы, зовущие к коммунизму. Все сгинуло, как прошлогодний снег. •