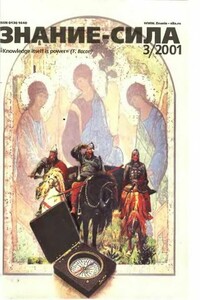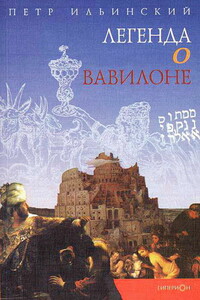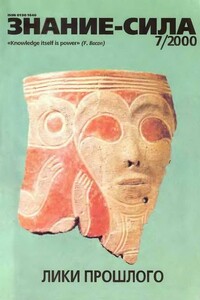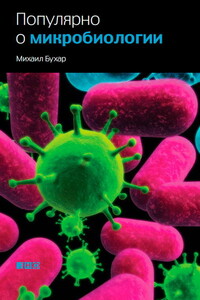Танго сверкало. К победному аккордеону присоединилась томная гавайская гитара.
То была сцена, достойная времени. Тогда она воспринималась как эксцентрика, сейчас в ней видится нечто пророческое.
— Мика, а помнить Марьи Юрьевны страсти в Даниловом монастыре? — обратился Маэстро к старцу.
— Как не помнить... И забыл бы, да вот поди ж ты, забудь.
— Кошмар! — подтвердил Маэстро.— Почище нынешнего «Феллини»!
— Пожалуй, что и почище... Не в пример... Шабаш сатаны! — опять согласился Мокей Авдеевич, подогревая наш интерес.
Уловив его своей артистической душой, небезразличной к женскому вниманию, Маэстро заговорил громче:
— Образованнейший человек эта Марья Юрьевна. Она знала прошлый век как никто. Однажды мы гуляли с ней по Донскому монастырю. Она показывала на могильные плиты так, словно под ними лежали ее знакомые. «Вот здесь Иван Иваныч, премилый господин, он спас того-то и облагодетельствовал семью такого-то, большой любитель света ... А тут Николай Петрович, он женился на княгине такой-то, состоял в родстве с декабристами... А здесь удивительный князь. Ничем особенным не отличался, но умер интересно. Выпил бокал вина — и готово!» Это надо слышать! Она была у нас консультантом по эпохе. Специально пригласили, когда ставили «Декабристов» Шапорина. Я пел Рылеева. Труднейшая партия... Особенно в последнем акте.
— Эк, куда тебя понесло,— нахмурившись, перебил Мокей Авдеевич,— скачешь с пятого на десятое.
— Вот именно,— спохватился Маэстро.— Так вот. Марья Юрьевна Барановская была секретарем комиссии по эксгумации... Ну и работка, доложу вам,— дежурить при гробах. Переносить их с одного кладбища на другое.
— Кого переносили, а кого и нет,— уточнил Мокей Авдеевич, не позволяя чересчур вольно обращаться с фактами.
— Ну это как водится... От широты душевной кое-кого с землей сровняли... Как мусор... У нас ведь недолго.
— Наломали дров, накуролесили, а теперь хватились... Дуралеи... Вот когда кощунство-то началось.
— Вскрывали могилы Гоголя, Языкова, Веневитинова...
— Извини! Веневитинов Дмитрий Владимирович покоился в Симоновском монастыре,— снова уточнил Мокей Авдеевич.
— Да, но перстень на его руке был из раскопок Геркуланума! — взорвался Маэстро, не выдержав очередной придирки, и, раздраженный, продолжал настаивать: — И подарен был Зинаидой Волконской!
П. Д. Барановский, Г, О. Чириков, Северная экспедиция, двадцатые годы
Дом в Новодевичьем монастыре, где жили Барановские
В коллаже А. Добрицына использована работа Н. Нестеровой «Маски».
Это Марья Юрьевна позже передала его в Литературный музей. И она записала, что корни березы обвили сердце поэта. И она сказала, что зубы у него были нетронуты и белы как снег. Я тебе больше скажу — и знай, что об этом ты ни от кого не услышишь,— Марья Юрьевна поцеловала прах Веневитинова в лоб и мысленно прочитала его стихи.
На сей раз Мокей Авдеевич промолчал, и Маэстро, остывая, продолжал убеждать:
— Да-а! Она доверила мне с глазу на глаз. Поразительно! Откуда у двадцатилетнего юноши такой дар предвидения? Он как будто чувствовал, что произойдет через сто лет.
— Не напомнишь, а? — смиренно попросил Мокей Авдеевич.— Проку-то гневаться.
— Не надо бы тебя баловать... Ну, ладно... Я незлопамятен.— И Маэстро остановился под деревом, тень от которого сетью лежала на снегу:
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом...
В это время ветер рванул крону, тень ее закачалась под ногами, придавая нашей неподвижности иллюзию движения. Мы как бы зашатались, теряя опору, подвластные заклинанию:
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных тихих снов
И молви: это сын богов,
Любимец муз и вдохновенья.
Он замолчал и первый вышел из колдовского переплетенья теней. Вслед за ним шагнули и мы, с облегчением ощутив твердую почву.
— Но вот дошла очередь до Хомякова,— продолжил Маэстро.— Идеолог славянофильства, интереснейшая личность... Подняли гроб, открыли, а на усопшем целехонькие сапоги... В тридцатые-то годы! А вокруг беспризорники-колонисты, они жили в монастыре. Как они накинутся на эти сапоги! Если бы не Марья Юрьевна, разули бы. А пока она отбивала Хомякова, кто-то отрезал от Гоголя кусок сюртука.
— Вроде даже и берцовую кость прихватил,— добавил Мокей Авдеевич, мертвея от собственных слов.— Вроде Гоголь потом стал являться мерзавцу во сне и требовать кость. И за две недели извел. Безо времени. Покарал похитителя.
Мы шли длинной малолюдной улицей, выходящей на суматошную вокзальную площадь,— там, в сиянье огней, клубился холодный неоновый дым.
Перед нами скелетными рывками мотало на деревьях перебитые ветви. Повисшие, они напоминали рукокрылые существа — каких-нибудь летучих мышей или вампиров.
Огороженная заборами, кирпично-каменно-цементно-бетонная улица казалась бесконечной. И было удивительно, что мы достигли ее конца.
Над последней глухой стеной трещали и хлопали от ветра разноцветные флаги. Флагштоки, раскачиваясь в железных опорах, душераздирающе скрежетали. От этих звуков пробегал мороз по коже, так что не радовали и веселые цвета флагов. Призраки потревоженных писателей подавали голоса, слетаясь на зов Маэстро. Жу-у-утко! Холодно-о-о! Тя-а-ажко! Им вторило оцинкованное дребезжание водосточной трубы, оборванной у тротуара и Держащей на волоске свой болтающийся позвонок. На нем трепетала самодельная бахрома объявлений: «Куплю!», «Продам!», «Сдаю!».