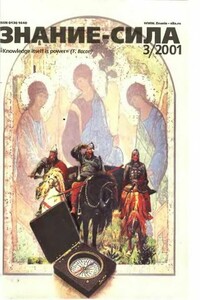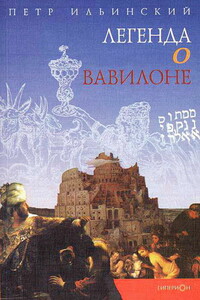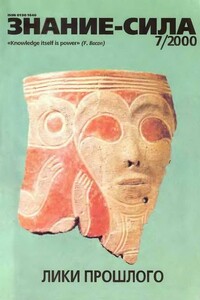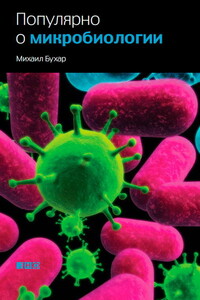Марья Юрьевна, Петр Дмитриевич, какие люди!
(Из жизни недавней Москвы)
Реставратор Петр Дмитриевич Барановский, 1943 год, Новый Иерусалим
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
А. Пушкин
Вчера меня принудило плакать.
Сегодня я оплакиваю вчера.
Из старинной арабской поэзии
И я подумала: чтобы любить город,
нужно никого в нем не любить,
не иметь в нем любви, кроме него:
его любить — тогда и полюбишь,
и напишешь.
М. Цветаева
Танец у катафалка
Давным-давно, лет десять тому назад, а кажется, что добрые сто, это называлось литературным объединением. Тогда несколько человек собирались в холодном клубе, чтобы почитать свои веши и услышать, как их разносят товарищи по несчастью (или счастью, если хотите). Потом эти несколько запирали комнату и шли длинными узкими коридорами, по пути заходили к певцам и все вместе, минуя фойе, спускались к выходу, над которым, призрачно освещая снег, брезжила неоновая вывеска: Дом культуры автомобилистов.
Он и сейчас есть на Новорязанской, позади Елохова. И сейчас сюда кто-то ходит, но в наши времена здесь собирались другие...
Итак, мы шли коридорами. Уже огибая кулисы, мы услышали душещипательный аккордеон. Танцоры разучивали танго. Они всегда упражнялись в фойе. Шарканье эстрадных ног становилось ближе и ближе. Сейчас незаметно, на цыпочках, мы пройдем мимо, бесшумно притворим за собой двери.
Но что это?.. Первым остановился Маэстро. За ним остолбенели и мы.
Под звуки роскошного танго, в полумраке, тихо двигались пары. Кавалеры обтянуты трико, дамы — в длинных широких юбках. У обнаженных плеч рдели бумажные розы.
За окнами на проводах качались фонари, освещая заснеженную крышу напротив и большие буквы, укрепленные на низком карнизе здания: ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА. Как в зеркале, плыли по этому фону, в темном оконном стекле, во всю его ширь, отражения танцоров. Казалось, они двигались между двумя огнями — наружными, зыбко-тревожными, и комнатными, как бы влитыми в стекло и застывшими,— проходили сквозь них, словно духи, и, неопалимые, бессмертные, недоступные тлению, плыли дальше. Пышные белые шторы отделяли эти видения от бренного мира.
Элегантный и гибкий, скользил между ними педагог, поддерживая воображаемую партнершу за талию. Он громко отсчитывал: «Раз, два, три, четыре! P-раз, два, три, четыре!». С наигранным целомудрием кавалеры повиновались ему, склонялись над дамами и, резко притягивая их к себе, опять кружили, кружили... Старательные, одинаковые, точно сделанные на заказ. Стекла дробили и множили их отражения.
А в центре...
В центре зала, обтянутый траурным крепом, стоял КАТАФАЛК. Люстры и зеркала были затянуты полупрозрачной тканью. Чернокрасные ленты обвивали колонны.
— Ну и ну,— сказал Маэстро.— В чистом виде Феллини. С доставкой в родное отечество. Признаться, на ночь я предпочел бы что-нибудь менее экстравагантное.
— Классическое танго! Неувядающее! Вечно юное! «Мода на короля Умберто»,— бесстрастно сказал одинокий танцор, галантно поддерживая даму-невидимку, свою волшебную пленницу.
И-и-и раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Профессиональная нога в узком лакированном ботинке безупречно шаркала по паркету. И сладостно замирала, слишком легкая, странно женственная в подъеме, как будто созданная для показа. И опять неумолимо требовательно, с едкой вкрадчивостью наступала. Несуществующая подруга изгибалась в его объятьях, лжеиспанские ядовитые завитки блестели у нее на висках.
А танго навевало мечты. Оно стонало и обольщало.
— Тронулись,— двусмысленно протянул Маэстро, и погребальным' шагом мы вышли из зала.
Мы проследовали по самому краю этой импровизации, пахнущей здоровым потом, сокрушенные приступом самодеятельного вдохновения. Кораль Умберто был реальнее, чем мы.
На лестнице столкнулись с администратором, он нес большую фотографию с траурным уголком.
— Молодой начальник автоколонны,— сказал администратор,— гражданская панихида у нас.
С фотографии приветливо смотрели глаза, теперь уже закрытые навеки.
— Несчастный случай,— сказал администратор.— Что-то с тормозами, чья-то халатность,— И, поправляя траурную ленту, уже по всей официальной форме сообщил: — Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.
Где-то над нами был репродуктор, и музыка била еще и сверху, заставляя вздрагивать и прикладывать ладони к ушам.
— Они б еще на погосте танцы устроили! Разогнать всех! Нашли время. Вавилон новоявленный! Тьфу! — старец Мокей Авдеевич, один из певцов, высказался за всех.
Маэстро, смутившись, дернул несогласного за рукав.
— Где других-то взять? — с невольным смущением спросил администратор.— Не они для нас, а мы для них... — шепотом объяснил, что мероприятие неожиданное, оповестили часа два назад, даже занятия не успели отменить, а раз люди пришли, куда денешься.
В его словах была та извинительная человечность, которая восстанавливала хоть какой-то здравый смысл.
А музыка набирала силу, она благословляла и воскрешала дух всеобщего братства. Танец становился чем-то более замечательным — публичным действом, актом группового единения граждан. Даже виновник аварии, вопреки естественному ходу вещей, сейчас присутствовал в зале. Не отраженный в зеркале, размытый, потусторонний, но тем не менее зримый, он обнаруживал себя то в шарканье, то в церемонных поклонах. Погубленная улыбка начальника автоколонны сопровождала его движенья.