Змеиное яйцо - [2]
Холдинге р. Дьявольски спешим, не так ли? Собираемся пообедать? Я тоже. Пошли, я угощаю. Как дела, дорогой Абель? Как Макс и Мануэла? Рука у него скоро заживет, как ты думаешь? Знаешь, нам здорово недостает вас троих. Цирк просто плачет по вас. Ты, конечно, недоумеваешь: что это он, мол, делает здесь, в Берлине, когда вся труппа в Амстердаме? Приглядываю новые номера, мой мальчик. Сейчас я могу заполучить любую знаменитость, какую только душе угодно: ведь все знают, что я плачу долларами. Каждый вечер у нас аншлаг. Да арендуй я сарай вдвое больше теперешнего, и то он будет забит до отказа.
Они входят в ресторан, в это время дня полный посетителей. Это заведение довольно высокого класса со следами былой имперской роскоши. За оранжерейными пальмами несколько музыкантов в поношенных фраках выводят мелодию томного вальса. Вокруг Холлингера и его спутника тотчас же начинают суетиться метрдотель и официанты. Их проводят к столику в нише, задрапированной красным засаленным шелком. На стенах – картины, изображающие чувственные женские тела. Треснувшее бра с двумя сонными лампами отбрасывает теплый свет на стол, покрытый чистой, но потрепанной полотняной скатертью. Едкий запах сырой плесени успешно соперничает с ароматами блюд и табачным дымом. Холлингер заказывает овощной суп и жаркое из зайца – единственное, что внушает доверие в воскресном меню, бутылку шнапса в ведерке со льдом и две кружки пива.
Людям нужен цирк. Все летит к чертям. Не за что уцепиться. Послушай, что я вычитал утром в газете. Да, ты же не знаешь немецкого. Ладно, попробую перевести. (Холлингер извлекает из кармана субботний выпуск «Фёлькишер беобахтер», листает, наконец находит место, отчеркнутое карандашом.) Послушай-ка. (Читает вслух.) «Грядут страшные времена. Со всех сторон протягиваются к нашему горлу окровавленные руки обрезанных язычников-азиатов. Истребление христиан, учиненное евреем Изаскаром Цедерблюмом, могло бы заставить покраснеть Чингисхана. Свора жидов-террористов, натасканных на гнусное ремесло насильников и убийц, хозяйничает в стране, вздергивая на передвижные виселицы честных жителей городов и сел».
Холлингер умолкает и глядит на Абеля поверх очков, сползших на кончик его узкого ястребиного носа. Его тонкие губы растягиваются в улыбке, обнажая гнилые пожелтевшие зубы. Быстро захмелевший Абель отвечает собеседнику непонимающим взглядом. Холлингер возвращается к статье, пропускает несколько строк и находит нужное место.
Холлингер (читает). «Или вы хотите сначала увидеть, как тысячи ваших сограждан повесят на фонарных столбах? Вы будете выжидать, пока в вашем городе, как в России, начнут свою кровавую работу большевистские комиссары? Будете выжидать, пока не споткнетесь о тела ваших жен и детей?» (И вновь Холлингер испытующе смотрит на своего друга-циркача. Не добившись никакой реакции, он зачитывает последнюю фразу статьи.) «Сегодняшнее существование – это существование, исполненное великого страха». Тебе нужны деньги? Могу одолжить. Вот, пожалуйста, здесь шестьсот миллионов. Мне они ни к чему: завтра я уезжаю в Амстердам, нет никакого смысла их менять. В любом случае мне за них ничего не дадут. В четверг я был в Мюнхене. Там поговаривают о революции – о революции справа, мой дорогой Абель. (Холлингер опять улыбается, и в его колючих черных глазах внезапно сквозит усталость. Он допивает свой шнапс и снова наливает себе и Абелю.) Под страхом затаилась адская злоба. Сегодня все запуганы, запуганы до безумия. Робкие мелкие чиновники и их благонравные жены, солдаты, слоняющиеся вокруг казарм и мечтающие вновь оказаться на войне, обнищавшие крестьяне, ничего не получающие за свои продукты, учителя, переставшие верить в то, что написано в учебниках, – все они объяты страхом, и их страх скоро перерастет в ярость. Хочешь ты дожить до этого дня, мой дорогой Абель? Разумеется, не хочешь. И ты скорее предпочтешь – если, конечно, тебя еще до того не уничтожат, – ты скорее предпочтешь проделывать свои цирковые трюки на Южном полюсе, чем здесь, в Берлине, когда робкие восстанут и их страх обратится в ярость. (Оскалив в улыбке длинные желтые зубы, Холлингер дышит в лицо Абелю винным перегаром. Он распахивает пиджак: становится виден пистолет, который он носит в жилетном кармане, слева под мышкой.) Что бы ни случилось, меня живым никто не возьмет. Никто не отрежет мне сам знаешь что, в этом можешь быть уверен, мой дорогой Абель. Ну, за тебя, мой мальчик, мой ловкий маленький акробат. Мы выпутаемся, вот увидишь. Цирк – он всегда при деле. Поверь папе Холлингеру! Но почему ты молчишь, мой дорогой Абель?
Абель. Я слушаю. То, что вы говорите, интересно. Но, откровенно говоря, мне на все это наплевать. Я раскачиваюсь на трапеции, ем, сплю с девками. Чего же еще, черт побери, вы от меня хотите? Не верю я всей этой политической трескотне. Евреи так же глупы, как и все остальные. Если еврей попадает в беду, он сам в этом виноват. Он попадает в беду по собственной глупости. А я – я не так глуп, хоть я и еврей. Я не намерен попадать в беду. Так-то вот, папа Холлингер. Спасибо за обед и за деньги. Мне пора бежать. В четыре я встречаюсь с Мануэлой.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.
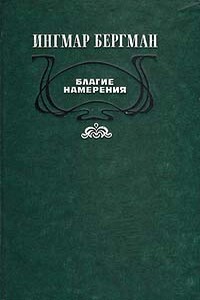
Наш современник Ингмар Бергман вряд ли нуждается в особом представлении. Он - всемирно известный кинорежиссер и один из создателей авторского кинематографа, выдающийся театральный режиссер и писатель. Роман "Благие намерения" вышел в свет в 1991 г., а уже в 1992 г. по нему был поставлен художественный фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. О чем этот роман? О человеческой судьбе, о поисках любви и мечте о счастье, о попытках человека, часто безуспешных и порой трагичных, противостоять силам зла и разрушения во внешнем мире и в нем самом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Должен признаться, я верен до конца только одному – фильму, над которым работаю. Что будет (или не будет) потом, для меня не важно и не вызывает ни преувеличенных надежд, ни тревоги. Такая установка добавляет мне сил и уверенности сейчас, в данный момент, ведь я понимаю относительность всех гарантий и потому бесконечно больше ценю мою целостность художника. Следовательно, я считаю: каждый мой фильм – последний.

Это издание осуществлено при поддержке Шведского Института и Посольства Швеции в России© CINEMATOGRAPH AB 1990 NORSTEDTS FORLAG AB, STOCKHOLMGRAFISK FORMGIVNING BJORN BERGSTROM SATTNING YTTERLIDSTRYCKT HOS ABM TRYCK, AVESTA 1990.