Зима с Франсуа Вийоном - [10]
Жан-Мишель прервал его.
— Постой, Поль! Если уж нам с тобой известно об этом убийстве, правосудию определённо стало известно раньше! Раз оно не наказало Вийона, значит, он не был виновен! Может, там просто произошёл несчастный случай? В жизни всякое бывает!
— Ну прошу тебя… — Поль всем своим видом выражал досаду и готовность защищать поруганную нравственность. — Я знаю это не со слов досужих сплетников! Мой сосед — двоюродный племянник стражника, который издали видел ссору Вийона и Сермуаза, а потом принимал участие в расследовании. Свершив своё чёрное дело, Вийон сбежал. Укрылся где-то и писал королю прошения о помиловании… Да, он сумел как-то выкрутиться, в конце концов получил помилование, только чего оно стоит? Убийство есть убийство, бедного священника не вернёшь, хотя я уверен, что его добрая душа уже давно в раю. А вот душа Вийона навеки запятнана кровью праведника! Вот только по его стихам никакого раскаяния не заметно. Просто не могу поверить, что этот нечестивый человек был способен делать столь ужасные вещи и при этом ещё писать стихи!
Другой знакомец Жана-Мишеля поведал, что Вийон погряз в грехе разврата, и добавил, что о его оргиях с самыми грубыми и распутными девками Парижа до сих пор ходят легенды. Третьи уверяли, что Вийон был причастен к нескольким громким ограблениям на большой дороге, четвёртые — что он был членом шайки разбойников-кокийяров, не имевших привычки оставлять своих жертв в живых…
Всё это не на шутку обескуражило Жана-Мишеля и даже охладило его интерес к стихам. Теперь, когда он брал в руки книгу Вийона, в его воображении возникали ужасные преступления, о которых он услышал от знакомых, и стихи казались ему огромным, чудовищным, дьявольским обманом. При этом сами по себе они нравились ему по-прежнему. Но если Вийон не был безнравственным разбойником, каким его изображала людская молва, значит, молва ошибалась, — а поверить в это было трудно и страшно.
До случая с Вийоном Жан-Мишель, как все люди своего времени, искренне верил молве — он ещё ни разу не сталкивался с ситуацией, когда молва оказалась бы не права. Молва считалась лучшим судьёй. Если кого-то, к примеру, считали вором, он обычно вором и оказывался, и рано или поздно его настигало наказание, — а потом на улицах Парижа увлечённо обсуждали особенности его казни, последние слова, мужество или трусость… Если в квартал, где все друг друга знали, вдруг забредал чужак и задавал вопросы, потому что не мог самостоятельно найти нужный дом, то люди сразу подозревали этого чужака в недобрых намерениях, держали кинжалы наготове и внимательнее смотрели за своими вещами. Всякий, о ком пошла дурная слава, считался в обществе таким же чужаком, и люди были от души благодарны молве за своевременное предупреждение и считали своим долгом распространить её и предупредить других. Большинство, не задумываясь, ставило собственную безопасность выше милосердия: главным было сохранить правильный порядок вещей.
Жан-Мишель привык чтить такое устройство мира. Для него само собою разумелось, что мир устроен хорошо и верно, и всё, что требуется от человека, — не нарушать его устройство: соблюдать законы, предписанные церковью и государством, чтить традиции, соответствовать своему месту в жизни и осуждать тех, кто пытается занять чужое. Юношам полагалось учиться, веселиться и наслаждаться молодостью, старикам — печалиться и ждать скорой смерти, богатым — демонстрировать власть, а бедным — почитать знатных и богатых и подчиняться им без ропота; человеку среднего достатка не приличествовало одеваться дорого, чтобы выглядеть богаче, чем он есть, — это означало бы не только гордыню, но и попытку обмануть других, показаться им тем, кем ты не являешься на самом деле, то есть опять-таки нарушить порядок вещей… Этот порядок был незыблем, как смена дня и ночи, как смена времён года, как математически точный, но непостижимый человеческим умом путь небесных светил. В псалме пелось: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это». Устройство общества было принято считать таким же правильным и дивным, как устройство природы и человека, и молва давно сделалась его самым верным слугой.
Поэзии в этом мире тоже было отведено своё место. Точнее всех его определил Эсташ Дешан, назвав стихи «la musique naturelle» — «естественной музыкой». Музыка воплощала в себе божественный порядок и гармонию и таким образом облагораживала и украшала человеческую жизнь. Стихи должны были делать то же самое: через точность рифм, благородство формы и содержания демонстрировать красоту миропорядка и пробуждать в человеческих душах восхищение этой красотой.
Пока Жан-Мишель не познакомился со стихами Вийона, он полагал, что всё это так и есть и должно быть так. А когда он попытался встроить Вийона в привычный миропорядок, у него не получилось. Да, на первый взгляд стихи мэтра Франсуа полностью соответствовали канону, их форма была безупречна, — но что-то мешало назвать их «естественной музыкой», восхваляющей и укрепляющей незыблемое положение вещей. Напротив, они вызывали беспокойство, задавали душе трудные вопросы, погружали её в сомнения, пробуждали в ней чувства, доселе дремавшие под слоем правил и запретов…
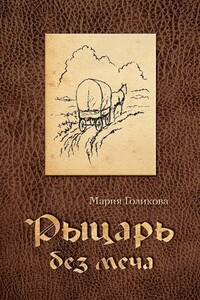
Это история о том, как однажды пересеклись дороги бедного бродячего актёра и могущественного принца крови, наследника престола. История о высшей власти и о силе духа. О трудном, долгом, чудесном пути внутреннего роста — Дороге, которую проходит каждый человек и которая для каждого уникальна и неповторима.
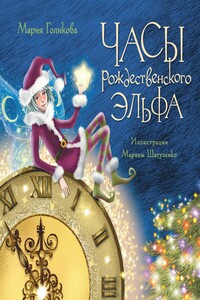
Чем меньше дней оставалось до Рождества, тем больше волновались жители небольшого старинного городка. Шутка ли, в этом году в одной из лавок появились поразительные часы, которые могли исполнить чью-то мечту. Что только не загадывали горожане, и каждый думал, что его желание – самое важное. Но смог ли кто-то из них заинтересовать обитателя фантастических часов и открылся ли кому-то главный секрет волшебного времени? В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
